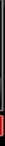|
NAME=topff>
ГЛАВА XVII
Путь в Лефортово неблизкий,
но тем для разговоров хватило на всю дорогу. Попервоначалу Володя ещё несколько
времени робел, чему способствовали его мысли о том, как там Марта, но
профессионализм своё взял, да и как ему было не взять, коли почти сразу, только
начавши тряское путешествие в далекое Лефортово, балерина втянула Володю в
разговор чрезвычайно увлекательный и интересный для журналиста Сигмы.
Особенно понравилось
журналисту Сигме то, как лихо оперировала мадмуазель Фонтейн знанием
противоправных происшествий. На Сигмин удивленный интерес, откуда сии познания,
француженка деловито поведала, что увлекалась всегда криминальной хроникой и
литературой. Сигма ощутил согревающее душу тепло взаимных интересов. Марта вот
книг не читала, а француженка – поди ж ты, уверенно рассуждала об ударах по
голове и их последствиях! Самому Сигме страсть как хотелось, чтобы вот сейчас, в
то время, что они посетят жертву преступления, жертва эта вдруг пришла бы в себя
и еле слышным голосом шепнула имя преступника «нашему специальному
корреспонденту». Он, честно говоря, на то и надеялся, предложивши сопровождать
балерину к пострадавшему.
Относительно мотивов
поведения примы Сигма думал, что это ею движет сострадание или, может, желание
вершить добрые дела, или и то и другое вместе. Артисты знаменитые любят сделать
благотворительный жест, особенно в присутствии представителей прессы, так что
для них это как бы взаимовыгодное сотрудничество.
Француженка говорила живо и
непринужденно, быстро перепрыгивая с предмета на предмет, словно птичка по
веткам, что немного затрудняло для Сигмы понимание её слов. Несмотря на то, что
Володя изучал французский в гимназии, преуспел
он в нём не слишком, а
француженка хоть и изъяснялась довольно сносно по-русски (с акцентом, но,
впрочем, весьма приятным), но нет-нет, да и вставляла в разговор длинные
французские фразы и сбивала этим Сигму.
Впрочем, мадам прима
обладала большим женским достоинством – она умела заинтересованно слушать
собеседника, и остановка экипажа у места назначения прервала поток слов,
изливавшийся из уст журналиста Сигмы на темы крайне занимательные, как-то: его
блестящие репортажи из темных закоулков городской жизни; его проницательные
соображения относительно преступления в театре; его профессиональные планы и
перспективы; его полезные знакомства с различными интересными людьми.
Как раз на днях г-н
Вахлаковский – сам, между прочим, будь здоров личность внушительная! –
познакомил Сигму с одной непростой особой, по поводу коей по знающей
Москве ходили слухи необычайные, воистину мифологические, благо, что был он
чиновником по особым поручениям при его сиятельстве генерал-губернаторе! Ну,
может, познакомил – это слишком сильно сказано, просто Сигма случился
поблизости, когда две солидные личности беседовали о чём-то своём, солидном, и
тогда уж…
Беседа прервалась, Сигма
спохватился и помог мадмуазель Фонтейн покинуть коляску. В больничной обстановке
мадмуазель Фонтейн сориентировалась на диво скоро, и пока г-н Сигма – даром что
уж побывал в означенном месте – оглядывался по сторонам, прима решительно
остановила пробегавшего санитара, и вот они уже шествуют в его сопровождении во
врачебную обитель – ординатский кабинет при том самом отделении, что требуется.
Аккурат в этой обители Сигме
тогда и дали от ворот поворот, категорически не позволив посетить палату,
где содержался г-н Мерцалов, но мадмуазель Фонтейн оправдала ожидания журналиста
в полной мере. Её появление в лекарском кабинете произвело должное впечатление;
никаких препятствий для посещения коллеги-артиста лекарь выдвинуть и не подумал;
предоставленные с милой картавостью обоснования необходимости этого посещения
нашли полное понимание; и журналисту Сигме пришла на ум мысль, что красивой
даме-журналистке, возможно, были бы открыты дополнительные пути и возможности в
добывании сенсационных материалов.
Хорошо, однако, что
дам-журналисток в природе быть не может, поелику ремесло это необходимо
подразумевает некоторые свойства, для нежных и женственных дам чересчур
несообразные, не соответствующие женской натуре. А не то конкуренция случилась
бы опасная.
В палате, где стены
выкрашены были клеевой краской какого-то непередаваемого зеленовато-серого
оттенка, нагнетающего чувство необъяснимого уныния, вид лежащего на казённых
простынях Сержа Мерцалова обстановку отнюдь не оживлял. Мадмуазель в этом её
полосатом платье с финтифлюшками представляла разительный контраст. «Словно
орхидея, - отметил про себя Сигма, - да, орхидея, обнаруженная на…
на болоте… или нет, лучше на Яузской канавке».
Мадмуазель Фонтейн порывисто
подошла к койке и присела на поспешно подставленный лекарем неудобный даже на
вид табурет, не обращая внимания на окружающее. Сигма также неуверенно навис над
койкой, вглядываясь в тот незначительный участок лица, что виднелся из-под
повязок и гипсового полушария, похожего на половинку белого мяча, нахлобученного
сверху на голову пациента. Глаза пациента были закрыты, кожа выглядела
мучнисто-белой, неживой, подстать казенным простыням.
Сигме подумалось, что с
разоблачением, слетающим с еле шепчущих губ, вряд ли что получится. Вид у жертвы
злодейского театрального преступления не внушал особых надежд. Эх, досада!
- Он слышит что-нибудь? –
чуть повернула мадмуазель Фонтейн голову к врачу, стоящему – руки в брюки –
позади них. – Понимает?
Врач подвигал бровями.
- Нет, мадам, он не
воспринимает ничего, что происходит вокруг. Полнейшая кома.
И врач с видимым
удовольствием присовокупил длинное латинское название.
- А когда он может прийти в
себя? – мадмуазель нагнулась к Мерцалову и вглядывалась в его лицо. Её маленькая
ручка поглаживала руку Сержа, вяло лежащую на сером казенном одеяле («Как снулая
рыба», - отметил себе журналист Сигма).
- Делать прогнозы при такой
травме крайне опромётчиво, иногда пациент приходит в себя неожиданно, но
приобретает травматическую амнезию, со временем проходящую, или же не приходит в
сознание вообще, - встрепенулся лекарь и пошёл сыпать терминами, среди которых
слово «кома» повторялось несчетное число раз. Хотя рядом с ним стоял Сигма,
пытливо буравящий его взглядом и записывающий его слова в блокнот, обращался
лекарь к мадам балерине.
Та на интерна – лекарь
несколько раз подчеркнул своё звание – не смотрела, склонившись к бледной жертве
преступления, тихонько что-то приговаривая в его загнутое ухо, жалко торчащее
из-под гипсового мячика. «Ничего, - думал Сигма, шкрябая как на грех царапающим
пером, - ничего, худо-бедно материал всё же будет, какая-никакая пожива – строк
эдак на десяток. Досадно, конечно, что такая кома вышла…»
Мадмуазель Фонтейн встала,
отбросив ногой трен своего платья. Её последовавший вопрос неприятно поразил
Сигму, не догадавшегося задать его раньше.
- Господин интерн, каким
предметом, по-вашему, именно вашему мнению, был нанесен удар?
Польщенный врач ответил, что
следователю он уже высказал свои соображения, но мадам, конечно же, с
удовольствием повторит, что пострадавшего, скорее всего, ударили тупым и гладким
предметом, возможно не слишком тяжелым самим по себе, но удар нанесен был с
большой силой, поэтому результат таков, как он есть.
- Бутылкой? - тут же
уточнила француженка.
«Во даёт!» – подумал Сигма.
Врач также посмотрел на маленькую балерину с уважением.
- То-то и оно, мадам, что
таков был вывод судебного эксперта на месте происшествия. Пострадавшего принял в
тот день не я, а мой коллега, но к вечеру он был переведен в мою палату, и я
полностью согласился с выводом, что и подтвердил следователю. Однако уже после
я… я… мне…
Тут врач замялся несколько.
Мадмуазель Фонтейн насторожилась, и её тонкая бровь взлетела вверх, она хотела
что-то сказать, но в этот момент со стороны кровати донесся слабый звук. Еле
слышный голос прошелестел несколько слов. Сигма кинулся к кровати как тигр, но
наткнулся на мадмуазель Фонтейн, необъяснимым образом уже склонившуюся над
жертвой. Сигма еле удержался, чтобы не отодвинуть прыткую француженку.
Все глядели на г-на
Мерцалова, а он смотрел в потолок, и на Сигмин взгляд глаза его были абсолютно
пусты, никакого проблеска мысли, однако они были, всё же, открыты. В светлых
ресничках улавливалась чуть заметная дрожь, некое усилие, вернее, попытка
усилия. Некоторое время ничего не происходило, и, наконец, Сигма не выдержал.
- Кто на вас напал, господин
Мерцалов? – спросил он. – Кто? Вас?! Ударил?!!
- Вы его так убьете!
Прекратите кричать! – возмутился врач. – Он не пришёл в сознание, это
рефлекторная деятельность мозга! Характерно при черепно-мозговой травме. Так, к
сожалению, бывает перед… ну, так бывает…
Глаза Сержа Мерцалова
медленно закрылись.
- Бедняжка, - тихо сказала
мадмуазель Фонтейн. – Пойдемте, Вольдемар.
В коридоре Сигма, делая вид,
что не обращает внимания на сердитые взгляды врача, которые тот кидал на него –
благо, что издали, - подождал замешкавшуюся рядом с врачом мадмуазель Фонтейн.
- Я передала пожертвование
больнице, чтобы был обеспечен дополнительный уход, - пояснила мадмуазель,
присоединившись к Сигме. – А теперь скажите, как вы думаете, господин Мерцалов
произнёс «кока» или «коко»? Трудно было разобрать отчетливо.
Заподозрить мадмуазель
Фонтейн в том, что она является тайным внештатным агентом какой-нибудь
французской газеты, было слишком дико, хотя Сигме в первую очередь в голову
залетела именно эта догадка. Выходит, мадмуазель прима обладает не менее тонким
слухом, чем он сам. А он-то решил, что остальные ничего не расслышали. Интересно,
может, она даже больше уловила?
- Мне кажется, что он сказал
«кошка», - почти не покривил душой Сигма.
- Кошка, кошка, - задумчиво
повторила мадмуазель Фонтейн, будто пробуя слово на вкус. – Вы так услыхали?
Они вышли на улицу, и Сигма
звонко хлопнул себя по лбу.
- Мы же не спросили! Этот
интерн длинноволосый замялся, помните? Почему, а? Он, возможно, что-то заметил и
пришёл к иному выводу насчёт орудия, чем его коллега! – и Сигма повернулся –
броситься, побежать назад, задать незаданный вопрос.
- Я спросила, - мягко
придержала его за рукав мадмуазель Фонтейн. – Он не хотел… как это?..
dénigrement…
поносить коллегу. Потому и не спешил уведомить следователя. Корпоративная этика,
о как это не как в театре! – и она засмеялась, потом посерьезнела. – Но мне он
сказал. Он сказал, что нашёл в волосах пострадавшего – у мсье Сержа густые
волосы, и он их всегда подвивал - крошечную частичку бумаги. Запеклось в сгустке
крови.
- Так это что ж выходит, его
газетой так стукнули? – обалдело вопросил журналист Сигма, к тому же
шокированный тем спокойствием и легкостью, с которой воздушная мадмуазель
говорит о таких грубых вещах. «Сам по себе легкий предмет, но с большой силой
удара…»
Мадмуазель Фонтейн с
сочувствием посмотрела на него.
- Видимо, бутылка была
завернута в бумагу. И не в газетную. По мнению господина интерна - он
наблюдательный господин, - это шёлковая бумага, знаете, в такую обычно пакуют
цветы и подарки. Она довольно дорогая и красивая.
«Вот что значит быть
женщиной, - мрачно подумал журналист Сигма. – Мне, небось, цветов в дорогую
бумагу не заворачивают, так откуда мне знать».
***
Сегодня Эрик вновь заметил
ту же парочку и не удержался, последовал импульсу. В карточном притоне, куда он
зашёл за ними, его знали, и Эрик заметил, как там переглянулись – это уже был не
его уровень, пройденный этап, - но в подобных местах не принято показывать вид
явно, и спросить никто не спросит… Человека, играющего «у Попова», нельзя
спрашивать, почему он зашёл. Раз зашёл, значит надо.
Он занял место сбоку от
графа Рауля, их разделяли два игрока, одним из которых был спутник маленького
графа. Стол освещался яркой лампой, висящей по центру стола, руки игроков резко
выделялись на зелени сукна, но лица были скрыты тенью, и он тем более не попадал
в поле обзора графа. Идеально.
Игра шла пока не по-крупному,
внешне вяло, но Эрик знал, что всё ещё впереди. Это называлось «разгон».
Искоса наблюдая за
интересующими его игроками, Эрик быстро пришёл к выводу, что маленький граф
играет неплохо, но имеет тенденцию неадекватно оценивать ситуацию, и слишком
самоуверен. Что ж, это он и так знал. Были случаи понять.
Его спутник также был Эрику
ясен. Притворяется, что играет ниже своего уровня, но – сильный игрок. Здесь его
с этой стороны не знают… или знают? Эрик понаблюдал ещё некоторое время.
Так-так, вот это уже по делу!
Спутник графа и
непримечательный господин на противоположной стороне стола обменялись
молниеносными взглядами. Естественно, маленький граф этого не заметил; никто не
заметил. Всё понятно. Такие схемы в ходу везде, где играют хоть в какие-нибудь
азартные игры. Эти двое заодно. Разведут. Дадут выиграть несколько раз, всё
увеличивая ставки; у везунчика – им не обязательно становится наивный, если
человеку кажется, что он ухватил за хвост Фортуну, то слепнут и прожжённые
индивиды, - откажет контроль и тормоза, его загонят вверх насколько можно и
отберут всё. Такие обычно работают в паре, иногда втроём, но это чаще на воде и
в поездах.
Дальнейшее развитие событий
вырисовывалось, но Эрик через некоторое время сделал вывод, что шулера не спешат
- видимо, программа у графского спутника была задумана долгосрочная. Особенно
если он пасёт графа давно, приехал с ним из Европы.
С ними.
Что же, это не его проблемы,
он не собирается предупреждать графа об опасности, нависшей над его деньгами.
Сам большой мальчик. Глава семьи.
Забавно, но ему бы не
составило труда перехватить инициативу у шулеров и прямо сейчас подвергнуть мсье
де Шаньи разовой экспроприации, но – зачем такое мальчишество! Пожалуй, пора
покидать эти палестины – суммы выигрышей здесь не настолько велики, чтобы
тратить время. Пора ему возвращаться к Попову – на более тучные пажити.
Выходя, Эрик увидел, что
парочка последовала его примеру и также встаёт из-за стола. Впоследствии он
сказал себе, что задержался на улице ненамеренно, случайно. Просто «так
получилось», как говорит Камилла.
С расстояния тридцати шагов,
скрытый обычной здесь уличной темнотой, Эрик с лёгкостью ознакомился с планами,
которые обсуждали граф Рауль и его спутник. Мало того, что мир тесен, он ещё и
продолжает сужаться. Удобно принять эту мировую тенденцию за «предопределенность».
Аслан наверняка провещал бы что-нибудь фаталистическое, вроде: «Неисповедимы
пути Аллаха, случайно ли пересекаются тропы, коими ведет Он людей?»
Остаётся сделать вывод, что
не случайно.
Значит, они подумывают в
дальнейшем переместиться к Попову? Ну-ну.
Удивительное совпадение. Так
получилось, что и Эрик там бывает, и не просто бывает, он там работает. И у него
там уже подготовлено нечто эксклюзивное, отрепетировано и «схвачено», как
принято здесь говорить. Ну-ну.
Ничего не попишешь. Аллах.
Так получилось, значит.
Как говорит Камилла.
***
Ну, продолжим нашу игру в
маски. И как же удачно выходит притворяться, оказывается. Сначала было просто,
но постепенно становится ясно, что в этом есть нечто большее. Люди – глупы, не
догадываются. Маска скрывает, и никто не догадывается. Состояние Души скрывает.
Состояние тела тоже. Если надо – это, кстати, серьезная и интересная мысль –
маска даже половую принадлежность скроет. Пол тоже… Ненавижу эти разговоры про
пол. Вопросы пола. Преувеличенная, искусственно раздутая тема. Мужчина или
женщина – разве есть важность уточнять? Должно быть просто понятие «человек», и
так и говорить. Она сделала, он сделал… просто сделано человеком. Или вот «понятие
вины»… Какой такой вины? Он виноват, она виновата… Нет вины вообще, что такое
вина? Предупреждали же, значит, всё правильно. Опять голова болит, появились
какие-то другие неприятные симптомы: звон в ушах, вроде писка. Надо хоть декокта
достать и принять, должен здесь быть, в ящичке… В нижнем ящике или в верхнем,
что ли? Куда она их засунула? В самом нижнем не должно быть, но почему-то тянет
сюда заглянуть. Всегда, постоянно тянет. Если тянет, нужно не сопротивляться
себе, а прислушаться к себе, понять, что в глубине ты всегда знаешь, что
правильно, природно. Для тебя. Под руку попадается что-то мягкое,
ласковое. Мягкие. Пушистые. Так бы и гладить, так бы и гладить. Красота не
главное, главное вот эта ласковость, мягкость. Внутренняя и внешняя.
Когда-нибудь развесить надо, нежно и с любовью к природе. Почему мою нежность и
способность любить так, что дух захватывает, не понимают, люди не принимают то,
что идёт от самого веления души моей, великого желания любви, это великолепно, а
приходится пускаться в такие ухищрения? Или это – правильно?
***
Трезвая определенность дня
внесла окончательную ясность в мысли, успокоила сомнения, все не идущие к делу
мелочи отсеялись, и Кристина де Шаньи отбросила колебания. Она вернется в Париж,
и вернутся они вместе с Эриком. Она даже готова ответить на все желания
Эрика. Если будет нужно. Нелепо допускать мысли, что Эрик может отказаться. «Прежняя
любовь не ржавеет». Она вознаградит Эрика за его ожидание, сторицей вознаградит.
Без него она ничто, и жизнь её будет тянуться серенько, бедненько и скучно –
это факт, а она умеет смотреть в лицо фактам.
Конечно, сначала она будет
немного колебаться, мучаться сомнениями и противоречиями, уместны будут и
невысказанное раскаяние по отношению к Раулю, намёки, что она привязана к нему
совсем иначе, но… но оставить Рауля она не может, потому что тот не перенесет её
ухода, а она не в силах омрачить его жизнь, она чувствует ответственность перед
ним… Всё это очень трогательно получится, и Эрик не сможет противостоять этому.
Главный козырь, как она
чувствует, это то, что она – его творенье, его создание. Он вылепил её, как тот
древний скульптор… как его бишь? – ну да не важно, Эрик ей рассказывал, но она
запамятовала. Изваял и сам влюбился. Эрик много ей рассказывал, читал, но она не
всё усвоила. У Эрика может появиться возможность и дальше: ваять и учить. Из
заурядной девочки – великую певицу с мировой славой. Кристина чувствует, что для
него это – очень многое значит.
Сквозь все эти резонные
рассуждения назойливо пробивалось воспоминание о Камилле Фонтейн. Хотелось бы
отбросить эти мысли, но - нельзя. Эта Фонтейн не то чтобы слишком красива – не
так уж она и красива, если разобрать, просто умеет производить эффектное
впечатление своей самоуверенностью, да! - но в ломаке Камилле Фонтейн есть нечто
необъяснимо привлекательное, какой-то огонь горит в ней, освещает изнутри. Это
опять-таки факт и не стоит пренебрегать им. С такими женщинами ох как трудно
бороться, мужчин просто завораживают такие. Сможет ли она справиться с ней,
пусть даже его первая любовь она, Кристина? Она по натуре немного холодновата,
она знает, что же поделаешь – северная кровь. Что может она противопоставить
этой Камилле, кроме прежней любви, пусть и не ржавеющей, что такое решительное и
веское, что оторвёт Эрика от неё?
Но тем приятнее будет ей
насолить. Какое право имела эта кривляка присвоить то, что принадлежало ей,
Кристине, маленькой Лотти? Право, стоит только отвернуться, и уже…
Это ради неё, Кристины,
Ангел Музыки способен был взорвать Парижскую Гранд Опера! Не шутка возбудить в
душе мужчины подобную страсть, не всякая женщина способна на такое, а она,
Кристина, смогла!
Жаль, что не взорвал…
***
Камилла Фонтейн на
мгновение привалилась к кулисе – она почти теряла сознание от боли. Гром оваций
отдавался в её ушах болезненным гулом, она чувствовала – ещё раз выйти на поклон
выше её сил. Она просто может грохнуться на пол без чувств.
Половину второго акта
балета Камилла танцевала полуослепшая от боли и слёз, застилавших её глаза. Боль
в колене была острой, она почувствовала её после прыжка, до того колено просто
немного ныло. Но после чуть жестковатого приземления – она недостаточно
спружинила, приземляясь – боль пронзила её несчастное колено и больше не
отпускала, наоборот, она жгла и сверлила, будто толстая горячая игла проткнула
мениск и раскаляется всё больше и больше.
Конечно, идея перетянуть
колено была правильной, да вот только она упустила из вида, что на сцену выйти
так нельзя – под тонким трико бандаж выделяется.
Её партнер Рифат Южин
наклонился к Камилле и что-то спросил, она не поняла за нарастающим гулом в ушах,
набрала больше воздуха в грудь, чтобы перетерпеть боль, оттолкнуться от кулисы,
выпрямиться и идти на поклоны, но без всякого предупреждения всё вокруг неё
предательски поехало, как на карусели и…
…и перед глазами закачалась
луна. Маленькая, далёкая, словно подернутая ледком. Камилла смотрела с
недоумением. Появилась вторая луна. Что за чушь! Откуда в театре луна? Тем более
две луны? Декорация задника, что ли? Камилла потрясла головой, и всё сразу
встало на место.
Резко пахло нашатырным
спиртом. Над ней поблескивали стеклышки докторского пенсне. Далее в поле зрения
Камиллы попала острая – клинышком – докторская бородка. Как у Дон Кихота.
Театральный врач был удивительно похож на Дон Кихота, Камилла давно это заметила:
такой же худой, немного согнутый, как вопросительный знак, и в пенсне, хотя у
настоящего Печального рыцаря никакого пенсне, конечно, не было. И самое смешное,
что фамилия доктора была Ламанчúн, представляете? Эрика это тоже развеселило, он
как-то так забавно пошутил… что он сказал? Дайте-ка вспомнить…
Не исключено, что Камилла
ещё некоторое время размышляла бы о возможности для Рыцаря Печального Образа
носить пенсне, но укол в область её многострадального колена живо вывел её из
состояния задумчивости. Камилла взвизгнула, подскочила и вцепилась в Дон Кихота.
- Всё, всё, мадмуазель, уже
всё, сейчас вам станет легче, - ласково приговаривал Доктор Кихот, отдирая от
своего сюртука судорожно стиснутые пальчики примы. – Я сделал вам укол морфия и
анестезирующую блокаду вокруг воспаленного сустава. Ну, отпустите же меня…
мадмуазель Фонтейн… отпустите… вот так, умница…
Оттого, что театральный
врач говорил с ней, как со слабоумной, Камилла окончательно пришла в себя.
- Что со мной? – задала она
сакраментальный вопрос. Второй сакраментальный вопрос, обычно задаваемый в
подобной ситуации, должен был звучать так: «Где я?..», но Камилла его не задала.
Она и так видела, что находится в своей гримуборной и лежит на своей кушетке. У
двери тихонько ахает театральная горничная, а в дверь поминутно норовят
заглянуть всякие лица с выражением острого любопытства на… лицах.
- Вы потеряли сознание,
мадмуазель Фонтейн, болевой шок, - врач собирал ампулки с отломанными концами и
шприц в свой черный докторский саквояж. – А теперь соблаговолите внимательно
выслушать, что я вам скажу, и постарайтесь сделать должные выводы из моих слов.
Стеклышки тренькнули,
театральный врач остановился и строго посмотрел на Камиллу. Строго и серьезно.
- Я вас слушаю, доктор, -
Камилла слабо завозилась, и горничная наконец-то кинулась подсовывать ей подушку
под спину и поправлять её пышные газовые юбки.
- Как же вы могли
подвергнуть свою травмированную ногу такой нагрузке? Разве можно так рисковать,
мадмуазель Фонтейн? – задал вопрос врач.
Камилла промолчала. Что тут
скажешь.
Так же молча она выслушала
все соображения театрального врача относительно такого неразумного поведения и
только виновато улыбалась. Однако врачебный прогноз согнал улыбку с её лица.
Врач строжайшим образом
предупредил мадмуазель Фонтейн, что налицо риск искалечить ногу непоправимо. И
конец карьере балерины! Если в течение того периода, что требуется для полного –
слышите, полного! – выздоровления и реабилитации после травмы, мадмуазель
балерина перенапряжет связки или нанесет своему колену ещё одну травму, то за
последствия он, г-н Ламанчúн, не отвечает! Ни в коей мере не отвечает!
Камилла, кусавшая губы,
уточнила, какого рода травму он имеет в виду. Сделала она это просто чтобы
что-то сказать, всё и так было ей ясно.
Врач объяснил, что имеет в
виду любую травму, особенно опасны в данной ситуации с мениском
приземления после прыжков. «Вниз», - добавил врач, подумав.
«А вверх, значит, можно», -
машинально подумала Камилла, стараясь, чтобы её губы не дрожали, потому что
доктор
Печального Образа внимательно смотрел на неё.
После ухода доктора с его
черным саквояжем в Камиллину гримуборную набились, было, взволнованные
посетители, но Вера Марковская, которая появилась тоже, быстро всех выпроводила,
в том числе и г-на Павловича, примчавшегося справиться о самочувствии примы.
Камилла восприняла появление Верочки как должное, но с благодарностью ей за то,
как решительно Верочка разделалась с зеваками. В то время как Марта Андерсон
последнее время была замкнута и сдержанна, сторонилась её, чему Камилла не
находила объяснения, Верочка, наоборот, как-то незаметно приблизилась. Увы, в
последнее время за своими переживаниями и заботами Камилла утратила способность
замечать чужие переживания и не слишком доискивалась объяснения причин такого
поведения Марты. Отдалилась Марта, приблизилась Верочка – какая разница.
Камилла полулежала на
кушетке и слушала доносящийся от дверей высокий Верочкин голосок, строго
усмиряющий чьи-то порывы. Ей не хотелось думать ни о чём. Надо бы ругать себя за
самонадеянность, за опрометчивость, за то, что поступила так по-дурацки – теперь
она ясно видела, как же её поведение было глупо – но не хотелось. И толку в том
не было, и жалко себя было.
- Что сказал вам наш
Эскулап? – поинтересовалась Верочка, заперев двери и садясь рядом с кушеткой. –
Мне он сказал только, что вам домой ехать лучше через полчасика, а до того
следует полежать.
- Да, хорошо, - кротко
согласилась Камилла. Обезболивающее средство оказывало своё действие. – Я полежу.
Что это за цветы?
- А, это? Это Южин принёс,
собрал для вас. Я у него взяла, решила, вам будет приятно, а остальные растащил
кордебалет и хористы. А это от вашего поклонника господина Хлынова, вот визитка
вставлена, видите? - хихикнула Верочка. – Ну, естественно, какая же ещё:
предпочтительный цвет. Мсье Хлынов жаждет отвезти вас домой, прослышав о
происшествии с вами.
Личико мадмуазель Камиллы,
на которое смотрела Верочка, не отразило ничего, глаза под тонкими веками с
нежными перламутрово-голубыми тенями закрыты, только густые ресницы дрогнули.
Бледное, осунувшееся, лицо Камиллы Фонтейн было, тем не менее, настолько
раздражающе миловидным, что Верочка отвела взгляд.
- Вы его тоже отправили,
надеюсь? – тихо спросила Камилла. – Я в любом случае не воспользуюсь его
любезностью.
- Я ему так и сказала, -
успокоила её Верочка. – Так что же наш доктор? Каков вердикт? Надо отдать ему
должное, он очень компетентный специалист, очень знающий, сколько лет пользует
театральную публику, а на балетных травмах собаку съел.
«Какое кошмарное выражение!
– жалобно сказала себе Камилла. – И почему собаку, а не кошку?»
Жалобно вздыхая, она
пересказала Верочке все докторские попреки и попеняла сама себе на глупую
самонадеянную неосторожность. Правда, всей строгости вердикта, вынесенного
врачом, Камилла не передала: ей самой почему-то страшно было повторять суровые
слова и предостережения доктора о возможном исходе. Как будто если она не
повторит его слов, то всё будет не столь серьезно.
Верочка выслушала Камиллу
сочувственно, согласилась, что всё не так страшно, рассказала какие-то истории
из своего опыта, призванные внушать бодрость и оптимизм, а затем, по истечении
предписанного Дон Кихотом получаса, помогла Камилле выйти из театра и в экипаже,
ожидавшем их у служебного входа, отвезла её домой, в Подкопаевский переулок.
Камилла, в лёгком
затуманенном состоянии души и тела, вызванном обезболивающим, позёвывая и
потирая глаза кулачком, выбралась из экипажа, удивительно плавно и без тряски
довезшего их, и, опираясь на руку Верочки, доковыляла до дверей. Их встретила
прислуга, здоровущая бабища, которая, всплеснув руками толщиной с Верочкину ногу,
подхватила мадмуазель Фонтейн и потащила вглубь квартиры, как муравей гусеницу.
Верочка поглядела им вслед,
огляделась вокруг и понимающе скривилась. Затем Верочка вернулась в экипаж и
покатила домой, мягко покачиваясь на упругих рессорах, под эластичный шелест
дутых резиновых шин думая о своём. Великолепный экипаж господина Хлынова, с
энтузиазмом предоставленный им в распоряжение мадмуазель Фонтейн по её просьбе,
которую прима передала через г-жу Марковскую, с комфортом доставил Верочку и был
отпущен.
В своём кабинете (или
будуаре) - Верочка называла его то так, то эдак, в зависимости от настроения –
Верочка достала из ящичка бюро маленький предметик, бархатную коробочку,
аккуратно уложила предметик в ватку внутри коробочки, а коробочку обернула
красивой шелковой упаковочной бумагой с разводами в виде павлиньих перьев.
Склонив голову нáбок, аккуратно написала несколько строк на серой веленевой
бумаге, секунду поразмыслила, брызнула на записку своими духами, прицепила к
пакетику и, позвав нянюшку, велела той сходить в лавку по соседству и кликнуть к
ней мальчишку, который часто выполнял для Верочки мелкие комиссии и бегал с
поручениями.
На следующий день в театре
Верочка Марковская заглянула к Марте Андерсон и пригласила её забежать к ней
сегодня в гости на чай. Да и поговорить есть о чём.
***
- Я занята, мне нужно
забежать сегодня к подруге, - Марта попробовала отделаться от Володи
Сыромятникова, но не преуспела.
Володя с энтузиазмом
предложил сопроводить Марту, а потом подождать у дома подруги, а затем он её
проводит до её дома, или они пойдут прогуляются, или они… Володя радостно
вываливал целый ассортимент пропозиций, и Марте стало неловко. Преданность и
удивительная бесхитростность Володи Сыромятникова в сердечных делах трогала
девушку против её воли. Мсье Андрэ был настолько же далёк от бесхитростности,
насколько интимный ужин в ресторанном отдельном кабинете отличался от съеденного
в сквере у театра бублика - одного на двоих.
- Ладно, уж давайте
зайдёмте со мной. Вера возражать не станет, - со вздохом предложила Марта. – Что
ж вы, Володя, будете тут торчать на улице.
Конечно, Верочка не
возражала, любезно поприветствовав господина журналиста. Г-н Сыромятников был
приглашён к столу, почаёвничали втроём; варенье, которое, по словам Верочки,
искусно варила её старенькая нянюшка, действительно оказалось преотменным, и
Володя, любивший сладкое как маленький, совсем размяк и надулся стаканами пятью,
а то и более, крепкого до темной бордовости чаю. И если бы няня только варенье
варила! Сдобная старушка была подлинной мастерицей и в области выпекания
разнообразных пирожков и прочих кренделей, а от аромата, источаемого поданными
ею на стол ватрушками, припудренными поверх золотистой корочки сахарной крошкой,
у Володи прямо-таки дух занялся, и помстилось, что даже короткий Володин нос
по-заячьи задёргался. Всё было точно как в Володиных мечтах о семейном укладе!
Были у него такие мечты: с большой приверженностью семейственному духу.
Дело было в том, что дома
гастрономическое расточительство находилось под строжайшим запретом, Володина
матушка за каждую копейку, на хозяйство истраченную, отчитывалась перед
придирчивым папашей. Оттого Володя свой семейный будущий дом видел в мечтах
обязательно с такими вот чаепитиями, и чтоб непременно с кренделями и ватрушками
к чаю.
Володя до того расслабился,
что выпал из общего разговора, блаженно поглядывая с равным удовольствием и на
барышень, и на пирожки. Барышни, впрочем, на то внимания не обращали, беседовали
о чём-то своём, потом и вовсе отправились куда-то в Верочкин кабинет «посекретничать»,
а их место заняла Верочкина нянюшка, мастерица варить варенье. Старенькая
круглая нянюшка, уютно подпершись рукой, сидела супротив Володи и неспешно и
обстоятельно излагала ему эпическую сагу семейства Марковских.
Володя слабо соображал, что
уютная старушенция начала издалека, повествуя о предках Верочки, которые, как
можно было подумать, ещё в составе армии царя Гороха с грибами воевали, но
постепенно продвигалась к современности. К тому моменту, что нянюшка перешла к
подробному рассказу о Верочкином детстве и о том, как маленькая разумница рано
говорить начала и всех тем удивляла, Володя почти дремал, согласно кивая головой
в такт нянюшкиным словам.
- …а лекарств принимать
страсть как не любила, чего только не выдумывала, золотце наше: котенку, вишь,
микстуру в роток вливала, а матушке-покойнице, упокой Господи её душу, говорила,
что выпила, - доносилось до Володи сквозь блаженный туман. – «Коток, коток, окой
оток» - это она так словечки выговаривала, ангел наш. А значило-то это «коток,
коток, открой роток». Заместо петрушки - «питюшка» говорила, а заместо морковки
– «мокока» у неё получалась, у красавицы-то у нашей.
«Нет, ну точно подмечено:
ворона говорит вороненку «мой беленький», а ежиха говорит ежонку «мой гладенький»,
- сонно думал журналист Сигма.
- Няня, - раздался Верочкин
голос, - перестань свои сказки рассказывать. Заговорила
господина журналиста. Вон гляди, спит уже.
- Да я, лапушка моя, про то
сказывала, что как ты словечки коверкала, так тебе даже прозвание такое –
Мокока – покойным батюшкой твоим дадено было… Всё он пошутить был горазд,
батюшка-то твой, Царствие ему Небесное! По всем знакомым пошло, смеялся, вишь:
как ваше фамилие Марковские, так и …
- Няня, это никому не
интересно.
«Ну почему же, - делая
усилие, чтоб выкарабкаться из сонного омута, подумал журналист Сигма и
сконцентрировал взгляд на пирожках. – Очень даже интересно».
Он проморгался, поглядел на
хозяйку, на Марту… И поразился. Милое личико Марты имело не свойственное ей злое
выражение, красные глаза прищурены, щёки цветут неровными красными пятнами. О
чём же это они там секретничали, в будуаре?! Впрочем, Марта быстро успокоилась,
приобрела привычный милый вид, и Сигма облегченно вздохнул.
Вскоре засим они
распрощались с г-жой Марковской, и Володя проводил Марту до её дома, искренне
сожалея, что Марта живёт так близко по соседству, а не на другом конце Москвы.
Девушка даже развеселилась, правда немного нервической веселостью, как
показалось Володе, но он рад был её оживлению. В последние дни Марта была
наоборот мрачновата и раздражительна.
Разговор, который они имели
в Верочкином будуаре, оказал на Марту Андерсон эффект запальника, подносимого к
фитилю в бочке с порохом. То, что Камилла Фонтейн рассказала Верочке о своей
травме и о мнении по сему вопросу театрального врача г-на Ламанчинá, Верочка
преподнесла Марте в нужном свете. Сама Верочка резюме никакого определенного не
сделала, но на необходимый вывод молодую амбициозную балерину натолкнула в два
счёта.
Вывод лежал на поверхности:
прима-балерина Камилла Фонтейн согласна была даже действовать себе во вред,
танцевать с серьезной травмой, лишь бы другим не дать танцевать!
От обиды, негодования и
отчаянной досады Марта буквально потеряла голову. Рассказ о происшедшем во время
спектакля (чтобы не расстраиваться, Марта вчера в театр не пошла, сказалась
нездоровой) пал на подготовленную почву. К тому же отец, которому Марта сначала
крепилась, не говорила об отмене своего первого серьезного дебюта, но больше
скрывать не могла, - не могла же она притвориться и имитировать дебют,
рассказывать о нём, как о состоявшемся, обманывать отца! - впал в ярость,
оскорблен был, что с ней так обошлись! Да отец так расстроился, что Марта уже
сама пожалела о том, что всё же рассказала.
Во всём была виновата
коварная Камилла Фонтейн! Её равнодушие, себялюбие и коварство! Верочка
молчаливо согласилась, что такое поведение заслуживает наказания, и хотя
ей неприятно подтверждать такое, но она может указать Марте на
несомненную лживость в отношении Камиллы Фонтейн не только касательно Марты. Что
Марта!
- Она и своего мужа
обманывает, помните, Марта, я вам говорила про её богатого покровителя, а вы ещё
не верили? – опечаленно спросила Верочка. – Так чтобы вы не сомневались, скажите,
сегодня появлялся господин Хлынов?
- Да, он принёс корзину
цветов. Очень красивых. Поставил на трельяж… ей поставил.
- Ну, так вы увидите, что
он каждый день будет приносить.
Марта пожала плечами, по
натуре девушка была объективной.
- Вера, в этом нет ничего
такого. Поклонники присылают цветы, тем более, когда артистка нездорова,
потом рассыльный их отвозит на дом. Ничего особенного, обычная практика. Не все
любят, чтобы почитатели ломились в частный дом.
Верочку это замечание не
смутило.
- Тогда, Марта, я буду
изъясняться конкретнее: обратите внимание на часовую цепочку господина Хлынова.
В ответ на удивленный
взгляд Марты Верочка продолжила:
- Он носит на цепочке
маленькие такие часики, дамские. Оригинальные и замысловатые. Так вот, эти
часики ему презентовала мадмуазель Фонтейн на недавнем маскарадном бале в знак
залога их отношений и страстных чувств. Я точно знаю.
- Я тоже знаю эти часики, -
медленно проговорила Марта. – Они были на её треуголке Коломбины. В такой
разноцветной розетке пришпилены. Она ещё мне сказала, что это - парижские. И ещё
сказала, что это - подарок её мужа! Неужели же она его подарок?..
Выражение Верочкиного лица
наглядно иллюстрировало невысказанную фразу в духе «кто понял жизнь, тот ожидает
всего».
- Вот видите, насколько
некоторые могут быть циничны? Если сомневаетесь, посмотрите сами, он их
постоянно носит, меж ними такая договоренность есть. Мадмуазель Фонтейн его
просила, так ей, дескать, приятно знать, что он всегда о ней думает. Символ его
преданности их роману.
- Я завтра посмотрю, и если
это так, я тоже стесняться не стану! – решительно сказала Марта. – Вы только не
подумайте, Вера, что я вам не верю, я напротив, очень доверяю вам, но сами
понимаете… все ведь могут ошибаться.
- Посмотрите, посмотрите,
убедитесь, - сокрушенно кивнула Верочка. – Я всё понимаю и одобряю вашу
щепетильность.
***
На следующий день
мадмуазель Андерсон так сверлила взглядом жилет г-на Хлынова в области диафрагмы,
что тот не выдержал и спросил милую барышню, делившую с предметом его страсти
артистическую комнату, в чём дело и что привлекло её внимание.
Последние три дня душа
Константина Корнеевича пела от радости. После бала маскарада, после танца, что
сплясала с ним мадмуазель Фонтейн, Константин Корнеевич места себе не находил,
аж дела вёл спустя рукава. Было что-то даже страшное в том впечатлении, что
произвела на него танцующая в его объятиях красотка балерина, что-то колдовское.
Однако после бала ему не удавалось ни разу не то что в руках подержать, всего-то
поговорить не выходило, на рандеву пригласить. Мадмуазель Камилла его в упор не
видала, и Хлынов, не привыкший к такому обращению, начинал медленно закипать.
И вдруг в одночасье всё
переменилось. Узнав, что прима, только что подплеснувшая к его пылу своим огненным
плясом на сцене ещё «бочку керосину», лишилась чувств за кулисами и сейчас в её комнате
её пользует доктор, г-н Хлынов ринулся туда, разметав толпу в коридоре, но был
остановлен невзрачной барышней. Барышня, нечто вроде компаньонки мадмуазель Фонтейн, –
не та, балерина, а другая, невзрачненькая, тринадцатая на дюжину, -
нежданно-негаданно оборотилась купидоном!
Именно через неё мадмуазель
Фонтейн приняла его предложение воспользоваться его коляской для отъезда домой,
только попросила не сопровождать её. Пока. Деликатный момент Хлынов понял как
нельзя лучше, невзрачная барышня выразительно подчеркнула слово «пока» голосом и
взглядом. Намекнула ещё, чтоб ожидал сегодня возможного сюрприза, и уточнила
адрес гостиницы, где квартировал г-н Хлынов, навещая Первопрестольную.
Тогда же ввечеру, поздно,
поджаривавшийся на медленном огне нетерпения Константин Корнеевич получил
письмецо с посылочкой и – возликовал.
В павлиновом пакетике
мадмуазель Камилла презентовала ему часики – «на память лучшему
кавалеру-танцору», как было написано в сером надушенном письмеце. Было там
ещё и «приятно было бы видеть их каждый день на Вас», и «ждите, имейте
терпение, Венера улыбается настойчивым». Достаточно там содержалось, чтобы
всячески обнадежить мужчину.
«И эх!!! – сказал себе Хлынов.
– Тронулся лёд! Ну, держись, Коська!»
И сейчас, когда милая
сероглазая балеринка спросила о часиках, греющих сердце г-на Хлынова (несмотря
на то, что висели они пониже, ближе к желудку), ему страстно захотелось
побольше поговорить на этот предмет, но он лишь подмигнул на балеринкины слова,
что, де «часики эти дамские очень напоминают те, что украшали шляпу Коломбины на
головке мадмуазель Фонтейн». Подмигнул, впрочем, дай Бог выразительно, так что
дура не поймёт.
Почему-то Хлынову казалось,
что все должны искренне радоваться за него. Вот пусть и балеринка порадуется.
***
Верочка, конечно, помогла
Марте писать анонимное письмо. Имя доброжелателя, взявшего на себя тяжкую, но
достойную миссию в деле наказания порока, не указывалось в письме, открывающем супругу
мадмуазель примы глаза на поведение его благоверной. Просто «Доброжелатель».
Не верите – проверьте. Доказательства сего, описанные, прилагаются.
|