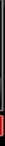|
NAME=topff>
ГЛАВА XII
Посещение московского театра
оставило в душе графини де Шаньи смутный осадок.
Сейчас, стоя у окна в
гостиничном номере – за последние три года её жизни их было слишком много, этих
гостиничных номеров, и слишком часто она стояла вот так же, глядя в окно, –
Кристина смотрела на улицу. Час был ещё довольно ранний для ленивой Москвы, на
улице малолюдно. По противоположной стороне улицы прошли дети в сопровождении
гувернантки, видимо в недалёко расположенный парк – гулять. Младший мальчик
прижимал к животу большущий полосатый мяч, по его упрямо-сердитому виду видно
было, что он не согласился дать понести его кому-нибудь ещё, и теперь ему и
трудно было нести этот мяч – маленьких ручек не хватало обнять толком, - и он
жалел с ним расстаться. Кудрявая девочка постарше катила колесо, энергично
подталкивая его палочкой и забегая вперед и возвращаясь.
Если бы хоть у них с Раулем
были дети… но пока Бог не дал. Врачи, правда, говорят, что нет никаких явных
причин в здоровье, и всё будет хорошо, надо подождать…
Пробежал разносчик с лотком
на голове. Лоток был покрыт белой тряпкой, из-под которой в прохладный утренний
воздух поднимался парок. Кристина уже видела такие – с таких лотков продавали в
России разные хлебные изделия. Кристина быстро замечала все местные особенности.
Иногда ей приходило в
голову, что её наблюдательность в последнее время обострилась. И ещё приходило в
голову, что обострилась она именно оттого, что ей приходится только наблюдать.
Вокруг идет жизнь, но она, Кристина – вне этой жизни. Она только смотрит на неё
из-за оконного стекла.
Второго дня в гримерной этой
манерной ломаки прима-балерины… Ломака-то она ломака, но сколько цветов стояло в
её комнате! Всё утопало в цветах, и, несмотря на то, что Кристина испытывала к
этой мадмуазель Фонтейн заслуженную неприязнь, она не могла не оценить её
искусства и не могла отрицать, что все эти цветы – вполне заслуженная дань
таланту самоуверенной мадмуазель. Талант не разбирает, какие головы осиять своим
светом – достойные или нет. Это он считал, что истинных вершин в
искусстве может достичь лишь свободная от пошлости душа, ставил на первое место
одухотворенность, но в жизни всё не так. Он ошибался… Вот этой Фонтейн
пошловатость и нахальство не помешали достичь действительно высокого мастерства
на своем поле деятельности. Хотя, если вспомнить, что рассказывала ей Марта об
этой мадмуазель приме, то остается подумать, что именно эти самые качества и
помогают той продвигаться в жизни. Высокопоставленные и богатые покровители,
энергичное и неразборчивое использование мужчин для достижения своих целей…
Марта потом в ресторане явно
старалась сгладить впечатление, всё рассказывала об этой мадмуазель Фонтейн, о
её талантах, преданности балету, трудолюбии и увлеченности, о её дружелюбии и об
её муже-композиторе, которого, впрочем, она сама не видала ни разу. Кажется, его
никто не видал и, что забавно, видимо и не слыхал его произведений, но
прима-балерина, очевидно, таскает его за собой в гастрольные туры, чтобы всегда
иметь под рукой хорошего аккомпаниатора - очень удобно, ха-ха…
Но как звучат аплодисменты,
как благоухают цветы, что бросает к твоим ногам восхищенная публика!..
Она думала, что забыла,
изгнала из своей памяти те воспоминания о свете, что сияет в тебе и вокруг тебя
в момент заслуженного триумфа… Да, тогда он пугал её, тогда она была, наверное,
слишком неокрепшей, чтобы принять на свои слабые плечики груз, налагаемый
талантом и славой. Но теперь она выросла, теперь она другая… взрослая… после
того… Странно, но она только через некоторое время осознала, что все те события,
что тяжким грузом (как ей тогда казалось) лежали на её жизни, изменили
её, что в результате она стала другой личностью, можно даже и так сказать. Или
та личность, что скрывалась до поры в ней, спала, та личность пробудилась,
развилась… Только теперь это не имеет значения.
И никому не нужно…
Кристина оглянулась на
двери, скрывающие за собой спальню… и спящего сладким сном Рауля.
Мальчик вчера выпил немного
лишнего. Кажется ей, или он стал более неумерен в этом? Нет, не кажется, в
последнее время Рауль не может себя проконтролировать и вовремя остановиться. И
это последнее время имеет конкретные даты: с тех пор, как с ними путешествует
мсье Андрэ Жермен. Сначала он ей просто не нравился, но теперь у неё появились
основания для этой антипатии.
Кристина опять отвернулась к
окну. Вот так и проходит её жизнь. Нет, она не жалуется, она всем довольна,
просто… Но ничего, скоро они с Раулем осядут, заживут своим домом, вот только
решится финансовый вопрос, и она получит возможность устроить всё по-своему и
устроит… вот хорошо-то будет им в небольшом домике (им не нужен большой,
замки ей ни к чему), и…
«…И что, - Кристина вдруг с
пронзительной ясностью увидела этот воображаемый дом и себя, стоящую у окна
своего дома и глядящую на улицу, на проходящую мимо неё чужую жизнь. – И
что, собственно, изменится? Только внешние обстоятельства, а внутри неё
останется эта смутная неудовлетворенность, ощущение, шепчущее: что-то не так,
что-то должно быть иначе… или могло быть иначе…»
Кристина тряхнула головой,
отгоняя мысли.
«Не хочу, - внушала она
себе, - не хочу об этом думать. Не буду об этом думать. Теперь ничего не
изменишь… Да что я говорю! Я и не хочу ничего менять. Не хочу!»
Она быстро прошла в спальню
(«Будто от себя убегаю…») и начала тормошить спящего сном праведника мужа
за плечо.
- Рауль, просыпайся, уже
поздно. Да сколько можно спать, право слово! Мы же сегодня собирались осмотреть
достопримечательности Москвы с милой мадмуазель Андерсон. Они с месье Жерменом
будут нас ждать. Ну мы же условились, одевайся, мой мальчик! Я приготовила тебе
свежую сорочку…
***
Марта осторожненько обошла
валяющееся на полу гримерки платье и ворох лежащих на нём балетных туфелек.
- А где костюмерша? –
спросила она у затылка Камиллы Фонтейн, сидящей перед зеркалом. Та вглядывалась
в своё отражение, наклонившись к поверхности стекла так, что её лицо чуть ли не
касалось его. – Я сейчас её потороплю, она всё приберет.
- Я сама приберу, - ответила
Камилла, не оборачиваясь и продолжая разглядывать себя в зеркале.
Марта тихонько вздохнула.
Мадмуазель Камилла сегодня то была необычайно оживлена, шутила и смеялась, то
затихала и отвечала односложно, впадая в задумчивость.
Марте хотелось думать, что
Камилла испытывает перед ней неловкость за ту нелепую выходку, но трезвый взгляд
на вещи не позволял ей поверить в это.
Марта - счастливая,
свеженькая, розовая после сегодняшней прогулки, поглядывая на мадмуазель
Фонтейн, пристроилась к своему туалетному столику, энергично орудуя щеткой для
волос – свежий ветерок очаровательно играл её локонами, и они сбились. Прогулка
удалась как нельзя лучше, отлично покатались, все были милы с ней, восхищались
её умением увлекательно рассказывать о том, на что она обращала внимание своих
спутников. Месье Жермен говорил, что мадмуазель Марта – великолепный
guide,
и шутил, что положительно намерен уговорить её применять свой талант гида и
дальше, и надеется, что ему выпадет счастье слушать её изумительные комментарии
во всех странах мира, куда он собирается направить свои стопы. Ах, он такой
забавный и такой настоящий французский
comme
il
faut:
только французы умеют столь легко разрешать затруднительные ситуации, что могут
возникнуть в общении между людьми, не теряя при этом достоинства и даже словно
превращая всё в шутку.
Когда сегодня произошла эта
неловкость с Володей Сыромятниковым…
Боже мой, господин
Сыромятников очень милый, славный молодой человек, и он так влюблен в неё,
Марту, но он, право, иногда бывает слишком надоедливым. Ей его жалко, но что же
она может поделать? Не могла же она сегодня, например, пригласить господина
Сыромятникова присоединиться к компании графа и графини де Шаньи, а он, смешной
мальчик, кажется, на это надеялся.
Марта вспомнила подробности
сегодняшней ненужной встречи с молодым журналистом и поморщилась.
Журналист Сигма, норовивший
подстеречь «невзначай» Марту тогда, когда она сказывалась занятой, появился
сегодня перед ними совершенно непредсказуемо у театра, где Марта прощалась со
своими друзьями после прогулки. Она от неожиданности представила его, а потом
пожалела. Сигма очень старался задержать всеобщее внимание, говоря без умолку и
стараясь развлечь иностранных гостей различными газетными историями, которые
рассыпал горохом, делая вид, что не понимает выразительных взглядов Марты и её
толчков в бок, когда она улучала момент.
«Впрочем, - думала Марта, -
может быть, он и правда не понимал, он ведь довольно наивный, бедняжка, хоть и
журналист».
Неловкость ситуации
усугубилась тем, что мадам Кристине, как в конце концов показалось Марте, эта
Володина навязчивость стала неприятна. Сначала мадам даже с интересом слушала
вдохновенные речи московского журналиста, пугавшего почтенную публику
повествованием об «опасных, но самобытных и колоритных» местах Москвы. Марта –
податься некуда – нехотя помогала ему с переводом. Причем юноша так увлекся, что
стал приглашать «отвести и показать», но здесь уж Марта и ткнула его кулачком в
бок. Мсье Жермен шутливо поощрял юношу продолжать рассказ, граф де Шаньи давно
разглядывал афиши, бродя под колоннами, Марта пыталась бочком оттереть
расходившегося журналиста прочь от колоннады, а он упирался.
Ох, так неловко! Господин
Сыромятников в последнем усилии понес что-то про то, что вот и здесь в театре,
зачем далеко ходить, всякие интересные персонажи могут встретиться, что-то про
позавчерашний вечер, что «как раз перед тем, что они вышли, повстречал он
здесь одного уникального типа…», но Марта не вслушивалась, она с досадой
наблюдала за начавшим менять выражение лицом мадам Кристины и, уже окончательно
придя в замешательство и окончательно не слушая Сигму, обратила просящий взор к
месье Жермену.
Тут-то месье Жермен и
проявил истинно французскую ловкость в обращении: сразу как-то всех развел,
правда, Марте не очень понравился его тон с Володей, но главное, неловкость
разрешилась, слава тебе, Господи.
Марта погладила волну
расчесанных волос – как шелк, право слово. А сделает-ка она себе нынче локоны в
стиле Louise
Quinze,
ей пойдет, у неё такие послушные волосы… Марта вдруг кое-что припомнила.
Она повернулась к Камилле.
Камилла с крайне озабоченным
видом пришивала к своим балетным туфелькам тесемки.
- Мадмуазель Камилла, я
хотела вас давно спросить, вы ведь собираетесь пойти на благотворительную
лотерею-аллегри, помните, мы как-то обсуждали с вами? – и Марта выжидательно
умолкла.
Камилла встрепенулась, и
туфельки с воткнутой в них иголкой очутились в куче на полу.
- Да, я обещала директору
стоять за одним из барабанов, вести аукцион. Дирекция обращалась с просьбой не
только ко мне, но к нескольким примам. Табакеркина пока ломается, но Выходцова
точно будет участвовать в розыгрышах, она не упустит ни одной возможности
прорекламировать себя, а устроители надеются таким образом собрать больше
средств, вы понимаете, - Камилла вдруг разговорилась. – Вы же знаете, это азы
всех лотерей - всегда предпочтительнее, когда цену выкликают красивые дамы –
мужчины охотно перед ними выставляются и платят, платят… - Камилла рассмеялась –
очаровательный звук, но звучит словно бы не к месту. – И оттого-то обычно
приглашают балерин, а не оперных певиц… С их комплекцией сомнительно
спровоцировать мужчин на благотворительность…
И мадмуазель Фонтейн
засмеялась ещё веселее.
Марта тоже посмеялась. В
конце концов, она также была балериной.
- Как чудесно! А какой
маскарадный костюм вы себе задумали?
- Я ещё не решила, но думаю…
нет, не могу пока сказать.
- А я хочу одеться
Маргаритой. Маргаритой из «Фауста», знаете? У меня есть костюм (этот
сценический костюм матери Марты остался единственным не проданным пока – отец ни
в какую не соглашался, хранил как память). Чудный такой, сама невинность, и
зеркальце на поясе, и бархатный кошелечек – такая прелесть! У меня даже веретено
и прялочка есть, представляете!? И знаете, длинные косы на прямой пробор мне
удивительно к лицу! У меня замечательно длинные косы, - сочла нужным пояснить
Марта, перехватив взгляд Камиллы.
- Но у Маргариты обычно
светлые волосы, - заметила прима-балерина.
Марта замахала ладошкой:
- Да нет же! Русые Маргариты
тоже бывают, это неважно. Моя мать пела Маргариту без парика, а она была
темно-русая. Я похожа на неё… так папа говорит, а я-то её совсем не помню,
только по фотографиям, - вздохнула девушка и, с нарочитым простодушием
улыбнувшись, добавила. – Но она была совсем тоненькая, поэтому её костюм мне как
раз в пору.
- Извините, Марта, -
отвернулась к зеркалу Камилла. И, не оборачиваясь:
- Конечно, всегда возможны
исключения.
Но Марта не унималась, ей
хотелось поговорить и обсудить. Лотереи, да ещё с бал-маскарадом, неизменно
провоцировали в театре оживление и порождали множество надежд на случай
и внезапное личное счастье.
- А ваш муж? Месье Эрик,
конечно, также посетит бал? Вы, вероятно, участвовали в маскарадах в Париже, я
слыхала о таких потрясающих бал-маскарадах в Гранд Опера, что просто берет
зависть, что не довелось побывать! А ваши костюмы будут парными? Последние
сезоны, ещё с Венецианского карнавала в Немецком клубе, в чрезвычайной моде были
парные костюмы для амантирующих пар…
Говоря это, Марта про себя
мечтала: вот она появляется на маскарадном балу невинной ясноглазой и
длиннокосой Маргаритой, и к ней подходит… нет, месье Жермен не представлялся ей
в костюме Фауста. Скорее она видела его в красном одеянии Мефистофеля, вот
забавно! О, женская интуиция! Если бы только женщины ещё к ней и прислушивались!
- Парными… - как эхо
повторила Камилла. – Я не знаю… Да, наверное, он будет, конечно… но я не знаю, в
какой маске…
Марта оживленно (её
необычайно взволновала идея парности Маргариты и Мефистофеля) продолжала
интересную тему:
- О да, маски – это так
интригующе! Они дают возможность превратиться в кого-нибудь другого, побыть не
тем, кто ты есть – и тогда ты уже не отвечаешь за свои поступки, правда? Ведь
это не ты, а маска! И можно помистифицировать, поинтриговать! («Да, маска
открывает большие возможности», - вставила Камилла мрачно, но Марта не
расслышала её реплику). На позапрошлом новогоднем маскараде произошел один
ужасно смешной инцидент, все потом о нём полсезона говорили. Даже во «Всемирной
иллюстрации» намекали, но неявно. Один петербургский господин приехал на этот
бал в надежде развить роман с одной московской красавицей, однако, также
замужней. Она с ним в юности кокетничала, но вышла замуж за другого, побогаче. А
потом, когда он уже женился и выгодно весьма, опять им заинтересовалась, со
скуки от муженька, видно, он у неё лет этак на пятьдесят её постарше. Так они
заранее условились, что оденутся в парные костюмы и по ним друг друга на
маскараде узнают. Но жена господина жуира каким-то образом про сию интригу
своего благоверного прознала и заказала себе маскарадный костюм точно такой же,
как у соперницы, представляете? И вот на маскараде её неверный супруг подкатился
к ней и стал её обхаживать и признаваться в нежных чувствах. Обознался,
представляете? Ну, он ей говорил всё, что в таких случаях говорят, и особо
настаивал, что всё это время продолжал её любить, а жену свою не любит ничуть,
просто это она его добивалась, отчего же, мол, было отказываться, раз любимая
недоступна, вот он и женился от безразличного отчаяния к жизни. А эта самая его
жена и слушает, можете себе представить?
Марта приостановилась
перевести дух.
- Я внимательно слушаю, -
сказала Камилла. – А вы-то Марта, откуда столько подробностей знаете? Рядом
стояли или в газетах прочитали?
- Ну что вы, мадмуазель
Камилла, - удивилась Марта. – Как я могла стоять рядом? Просто у этой московской
соблазнительницы общий куафер с мадам Выходцовой, она ей рассказала, а мадам
Полин поделилась всем о сем инциденте. Всё общество это необыкновенно развлекло,
- Марта помолчала и добавила. – Правда, потом кончилось всё не очень хорошо.
- И как же всё кончилось? –
поинтересовалась Камилла, внимательно глядя на себя в зеркало.
- Супруга того господина
попыталась плеснуть в лицо сопернице кислотой, а затем сама отравиться.
-
Dieu,
- поморщилась Камилла Фонтейн. – Какие итальянские страсти творятся на холодных
российских просторах!
- О, я знаю ещё и не такие!
– молодая балерина вдохновилась тем, что она посчитала поощрением. – Я могла бы
столько вам рассказать, мадмуазель Камилла! Скандальные истории и слухи!.. Театр
– это такое место!
- Это уж точно…
- И я уверена, на этом
маскараде тоже будет что-нибудь интересное, каждый бал-маскарад чем-нибудь
оригинальным знаменуется, вот увидите. И знаете, моя знакомая… ой, Серж, ты нас
испугал! Разве можно так тихо подкрадываться? Мы даже не слышали, что ты в дверь
вошел, а ты уже позади!.. Правда, мадмуазель Камилла?
- Я не испугалась, -
ответила Камилла Фонтейн.
***
Огоньки оплывающих свечей
отражались в полированной черной крышке рояля. Свечей было много, не только в
подсвечниках и шандалах, некоторые воткнуты в бутылки. Иные выгорели дотла,
огоньки других ещё плавают в горячих лужицах расплавленного воска.
Звуки музыки.
Кажется, это этюд Шопена.
Этюд ми-бемоль минор.
Эрик был весь во власти
музыки, он ушел в неё, как всегда полностью, и даже это определение не
передавало ощущение его отрешения от окружающего в реальном мире во всей
полноте. Музыка отгораживала его, как каменная стена от всего мира, и было
что-то пугающее в нём в этот момент, совершенно непохожее на то впечатление
восторга, эстетического наслаждения и преклонения перед чужим талантом, какое
производят на слушателей другие исполнители, даже бесспорно выдающиеся, чьи
выступления доводилось слышать. Может быть, слушающий игру Эрика всеми фибрами
своими ощущал, - не разумом, но неким шестым чувством, - что он безнадежно
остается на этом берегу, скудном и сером, пустынном и бесплодном по сравнению с
теми невыразимыми дивными мирами, откуда доносились до него отголоски звуков,
рождавшихся там под рукой гениального музыканта, и которым гений был приобщен на
зависть неполноценному миру, оставляемому за спиной его.
Кому же доставит
удовольствие осознание собственной неполноценности, тем более, если ты
достаточно чуток, чтобы понять это.
В глубине человеческого
сердца, на самом дне его, гнездится неприязнь к тому, кто не похож на тебя и
непонятен тебе. Неприязнь и страх.
Поневоле начинаешь думать,
что именно в этом дело, а не только во внешности Эрика. Его отличие от других
людей в его внутренней непохожести, словно бы он принадлежит к каким-то иным
формам человеческих существ, которые то ли давно исчезли, то ли ещё не появились
в этом мире. А то, что скрывается под его маской – что бы там ни скрывалось, -
не самое главное.
И когда он поет…
Камилла, неслышно по ковру
подошедшая к дверям гостиной, где играл Эрик, и тихо стоявшая за неплотно
задернутыми портьерами, обернулась на звук протяжного вздоха. Александра,
подперевши щеку здоровой рукой, тихонько вздыхала. Из прижмуренных глаз медленно
ползли слезы, оставляя влажные дорожки на круглых щеках в мелкой сетке красных
прожилок. Встретив взгляд Камиллы, Александра закивала ей, короткие брови её
приподнялись домиком.
Этот этюд Шопена – со
сплошными отклонениями и модуляциями, - тревожащая душу музыка, щемящая, и гений
исполнителя подчеркивает её совершенство…
Эрик тоже не стыдился, когда
его глаза были влажными после соприкосновения с красотой музыки.
Он ценит красоту как никто
другой.
Такая диспозиция – музыка за
портьерами, полутемный коридор и тихие слушатели в коридоре, - повторялась за
эти последние два дня не в первый раз. Как это всегда бывало с Эриком, он,
неожиданно уйдя с головой в музыку, мог проводить за музыкальным инструментом
несколько дней подряд, не замечая ничего и никого вокруг, зачастую не реагируя
на обращения к нему, не отвлекаясь. Даже на то, чтобы поесть.
Почему-то его творческий
пост в такие периоды особенно волновал Александру, в обычное время относившуюся
к барину нейтрально и со сдержанной опаской, и Камилла приходила к
заключению, что русские женщины необычайно жалостливы – особенно до вопроса
питания мужчин и самоотверженной опеки, - дай только формальный повод.
- Третью ночь, - шепнула
Александра и промокнула краешек глаза концом платка, наброшенного на плечи. –
Третья ночь пошла, как играет – не евши, не пивши. Только свечи ставит новые
взамен выгоревшим, и дальше…
- Да, как обычно, - Камилла
с благодарностью положила руку на забинтованный локоть Александры. – Вы не
волнуйтесь, АлександрУшка. Он же всегда так…
Она смотрела на
пригорюнившуюся Александру, и в голову ей опять пришла мысль, до того также
иногда навещавшая её: «А как воспринимают Эрика остальные окружающие, что
сталкиваются с ним?»
Вот Александра, например,
кто для неё Эрик, каким она представляет его под маской, как про себя определяет
его? (Камилла не раз заставала служанку, зачарованно прислушивающейся к игре или
голосу Эрика, но в то же время она ясно видела, что Александра побаивается
Эрика. Как она называет его про себя?)
Камилле довелось узнать, что
маленькой Тусе Эрик представляется заколдованным злой колдуньей прекрасным
принцем (что, в сущности, не лишено смысла), а Марта знает его просто как
бесфамильного композитора. Аслан-бек – их общий с Эриком персидский знакомый -
рассказал ей, что Эрик носил жуткое имя «Живого трупа» в бытность свою
выступлений на ярмарках и наименование Ангела Смерти в обиходе шутницы-фаворитки
падишаха персидского, у которого Эрик был на службе. Сам Аслан иногда называл
Эрика Ангелом Израфелем. В парижском театре его прозвали Призраком, да он и сам
себя так называл. А кто ещё каким именем называет для себя Эрика?
Человек, который носит маску
и как будто не имеет собственного лица, в восприятии окружающих имеет множество
лиц. Столько, сколько людей его видят в маске…
- …Я вот сварила молочка с
медом, с имбирем, и капельку его бальзаму капнула. Может, поставите ему, барыня?
– вторгся в её мысли приглушенный басовитый шепот Александры.
- Ох, Александра, это прямо
какой-то любовный напиток получается, что вы варите!.. – фыркнула Камилла.
Слабая попытка пошутить по-прежнему: за последние два дня она устала так, как не
уставала за полгода.
- Ну, хорошо, давайте
попробуем. Только лучше кофе сварить покрепче, как он любит. Попытка номер…
какой номер, Александра?
- Вечор так остывший и
нетронутый унесла.
Камилла стояла за спиной
Эрика, держа в руках серебряный подносик с исходящей паром чашкой. Густой
горячий напиток вкусно пах корицей.
Она смотрела на тесемки
маски в темных волосах Эрика - прямо перед ней. Он не слышал, что она стоит
позади. Он ничего не слышал, только музыку, что была в нём, в его душе.
Его плечи под черной
бархатной курткой двигались, длинные пальцы скользили и летели по клавиатуре.
Касания были легкими и сильными, иногда томительно небрежными, иногда чувственно
вкрадчивыми; когда Камилла смотрела на его бегущие по клавишам пальцы, её всю
обдавало жаркой волной.
Камилла непроизвольно
подалась вперед, так захотелось – до щемящего потягивания в сердце – погладить
его волосы; сердце сжалось, затосковало, но она же дала себе слово – не
навязываться… Нужно было держать марку.
Камилла двинулась обогнуть
рояль, чтобы поставить поднос на крышку сбоку, кинула взгляд поверх плеча Эрика,
поверх растрепавшихся волос, что он резко отбрасывал только ему присущим
движением головы, и у неё стеснилось дыхание. Перед ними лежала темная
зеркальная поверхность воды, черная, как чернила. Огни свечей отражаются в
черной воде, словно вырастают из воды, плошки с огнями плавают на её зыбкой
поверхности. Она сидит на носу гондолы, позади на корме - Эрик, сильно
толкающий шестом их лодку, - и перед носом лодки, режущей застывшую черную гладь
воды, видит уходящую в туманную мглистую черноту узкую дорожку и голубой
сочащийся свет в конце её.
Камилла зажмурилась,
замигала, и зрение прояснилось. Только черная полированная крышка рояля, только
стоящие на ней свечи в кованых подсвечниках, бутылках и даже розетках для
варенья. И под окном в конце комнаты на столике – лампа под абажуром.
Примерещится же… Похоже на воспоминание о подземном озере. О черном подземном
озере, о скованной ледяным молчанием воде в подвалах Парижской Оперы, за которым
остался утонувший во мгле, запечатанный на сто замков подземный дом Эрика, в
котором он жил, страдал и который он оставил навсегда.
Во сне она часто видит воду,
особенно когда заболевает или вообще устала…
Бабушка говорила, что душа
во сне знает свою судьбу, и это означает, что в её жизни случится что-то важное,
связанное с водой.
Верно, это уже случилось!
Эрик вытащил её из воды, когда она тонула в черном подземном озере, и так они
встретились и полюбили друг друга.
Камилла обошла рояль,
поставила блеснувший подносик с кофейной чашкой на крышку. Эрик не отреагировал,
продолжал играть. Наверное, с закрытыми глазами. Она заглянула в прорези его
белой маски, но они были темные, как пропасть, страшные. На дне она не увидела
золотистых огоньков.
Камилла тихо вышла.
***
В своих номерах «Всемирная
иллюстрация» писала:
«Тому уже более года, как
Дирекция императорских театров перестала пользоваться исключительной привилегией
на проведение публичных маскарадов, которой она обладала с 1803 года (за
исключением шестилетнего периода, когда привилегия на них Управой благочиния
была предоставлена внучатому племяннику сиятельного князя Потемкина и наследнику
его огромного состояния, приятелю А.С. Пушкина по литературно-театральному
обществу «Зеленая лампа» - Василию Васильевичу Энгельгардту), но маскарады
Большого театра в Москве по-прежнему остаются часто посещаемыми.
Их принципиальное
смешение посетителей, интригующие контрасты социальные и дозволенная
распущенность поведения – в противовес большей строгости петербургских балов, -
делают их центром притяжения публики, для которой немалой приманкой является и
возможность увидеть знаменитых артистов, которые часто привлекаются для продажи
билетов лотереи-аллегри.
Здесь, также, часто можно
встретить весьма экстравагантные костюмы. Так, одна из посетительниц явилась в
наряде, который можно было охарактеризовать как отсутствие всякого костюма,
близкое сходство с туалетом нашей прародительницы Евы – легкая газовая накидка
до… до… только до тех пор, а потом телесного цвета трико!..
Внешний лоск и богатство
поражают воображение. Когда даются маскарады, то всё пространство, занимаемое
стульями и креслами, покрывается полом наравне с авансценою, от чего делается
весьма обширная зала, в самом отдалении авансцены располагается буфет… но ещё
приятнее смотреть на блестящее московское общество во время маскарадов и
костюмированных балов: разнообразие вкуса, моды, богатство украшений приведут
вас совершенно в изумление; здесь вы увидите в полном блеске отличных щеголей и
щеголих Первопрестольной.
К недостаткам же этих
балов можно отнести, – по мнению многих, – слишком большие помещения, открытые
глазу всякого насквозь, где все и всё на юру, на виду, и трудно сыскать
помещений для уединенных разговоров, так что молодым людям приходится гнездиться
по подоконникам или садиться на длинных скамьях, справа и слева сцены в два
ряда…»
***
Эрик вновь прошелся по зале,
затем поменял свой наблюдательный пост. Он отступил за округлый выступ густо
украшенной позолоченной лепниной ложи, скрестил руки на груди и стал наблюдать
отсюда. С темно-красных валиков лож второго яруса свисали довольно нелепые
маскарадные штандарты, но они хоть создавали укромные уголки.
Перед его глазами
нескончаемой вереницей мелькали маркизы в платьях с картин Ватто и белые
напудренные пьеро, албанки, польки, рыцари, кавказцы в бешметах с газырями,
летучие мыши, донские казачки в серебряно-розовой парче и с жемчужными косами
(«Где, интересно, они умудрились увидеть таких казачек?»), богатые персияне
с чернокосыми персиянками в газовых чадрах (Эрик иронически хмыкнул, припоминая
некоторые моменты своей службы при персидском дворе, потом вспомнил Аслана,
приподнял бровь, улыбнулся), а уж разнообразных бабочек и стрекоз было так
много, что впору было нарядиться энтомологом с гигантским сачком, банкой и
набором огромных булавок для накалывания масок-насекомых наперевес.
Мимо, колыхнув завесу, что
его скрывала, резво пронеслась объемистая Галльская жрица в костюме Нормы под
руку с китайцем в переливающемся халате и шапочке пагодой, и Эрику пришло в
голову, что его персидский халат с вышитым павлином выглядел бы не хуже. Спиной
к нему остановилась дама, вероятно считавшая, что она изображает Зиму или
Снежную королеву – с хлопьями снега из перьев марабу на белом платье и с
ледяными сосульками из бриллиантов до плеч. Она разговаривала с кавалером в
костюме мушкетера и так энергично обмахивалась веером, что Эрик вновь хмыкнул:
своевременная мера, в зале душно, жара, общество уже так разгорячилось, что как
бы сосульки не начали таять. Перо на широкополой шляпе мушкетера колыхалось в
такт движениям веера дамы.
Впрочем, многие были
chapeau
bas,
но почти все были в масках.
Что ж, это одно из тех мест,
где его маска выглядит легитимно и естественно. Маскарад воплощает метафору
«жизнь – игра», и сам же смеется над этим. Маскарад нарушает естественные
человеческие связи и отношения и тревожит двусмысленной зыбкой иллюзией двойного
мира – как зеркало. И как в зеркале – подмененный маской оригинал в карнавале
может зажить собственной жизнью, обмануть, солгать… Зеркало всегда лжет, потому
что не отражает сути того, кто смотрит в него, только обманчивую оболочку…
Эрик сделал над собой усилие
и вернулся к холодной иронии, которая служила ему верной защитой от некоторых
идей, которым - он знал, - не стоило давать волю. Он знает, что у него есть
некое количество idée
fix,
у кого их нет, но он может держать себя в узде и контролировать себя.
Вопрос, стоило ли ходить
старыми путями, больше не маячит перед ним. Год назад он отмел желание Камиллы
пойти с ним на какой-то маскарад, на который она была приглашена с ним вместе,
отмел без объяснения причин и одновременно надеялся и боялся того, что она
правильно поняла его, правильно истолковала. Что же, он не был уверен в себе?
Тени? Напоминание? Если бы сегодняшнее карнавальное действо не требовало от него
присутствия – скорее, в целях собственного спокойствия, чем из необходимости, но
он всё ещё тревожится, – пошел бы он сюда просто так, потому, что ей
хотелось, или нет?
С высоты его роста поверх
голов Эрику хорошо было видно расположенную неподалеку полосатую палатку-шатер с
полосатыми столбиками, увитыми цветами и плющом, оснащенную большим стеклянным
барабаном, из которого доставались билеты благотворительной лотереи. «Сбор
средств славянским комитетом в пользу инвалидов Балканской войны» - изгибалась
надпись над зубчатым карнизом палатки. Стеклянный барабан безостановочно
вращался, перемалывая вихрь крутящихся внутри билетиков – как магический шар
предсказателя судеб, полный звездной пыли, - и блики света бежали по лицу
Коломбины, управляющей маленьким колесом Фортуны.
Коломбина в треугольной
шляпе с кокардой (кокардой служили крошечные часики, оправленные в пышную
розетку) и плюмажем из красного петушиного пера, в разноцветной тени палатки –
пользовалась большим успехом: у её палатки постоянно толпились кавалеры,
желающие внести свою лепту в дело благотворительности.
Камилле идет костюм
Коломбины. Готовясь к маскараду, Камилла обронила, что собирается изображать
скорее итальянскую Коломбину - маску, более близкую
commedia
dell’
arte,
- а не Коломбину французскую. Эрик не стал ратовать за чистоту жанра и
предупредил, что тогда его костюм и маска будут соответствовать. Камилла сделала
вид, что ей не интересно узнать, что за личину он наденет, и Эрик, только что
вышедший из творческого «запоя» и ещё не вполне пришедший в соответствие с
реальной жизнью, не обратил на это внимания и, закрывшись в кабинете, поспешно
занялся своей маской.
Сейчас, глядя на Камиллу,
Эрик ещё раз подумал, как она хорошо играет выбранную ею роль. Она сейчас была
настоящая Коломбина - живая и опасная, словно огонь, таящийся под пеплом,
красотка с равнодушно-неприступным видом, мгновенно меняющим выражение на
чувственно-веселое, жестокая и нежная одновременно марионетка, бездумно лживая и
беззащитная, через беспечность которой нет-нет, да и промелькнет скрытая в
глубине кукольного сердца печаль.
Она несла на себе печать
веселой маскарадной жути, что заполняла сейчас театр.
Конечно, Камилла узнала его
сразу, как увидела. Когда высокая фигура в черном венецианском плаще до пят,
черной узкой, острым концом затеняющей лицо треуголке, нависающей над
мертвенно-белой плоской маской с длинным птичьим носом, приблизилась к ней, то
её карминовые губы, накрашенные сердечком, дрогнули. «Не хочет ли сеньор Черный
Венецианец испытать судьбу и поймать удачу за хвост?» - спросила она тягучим,
низким «маскарадным» голосом и, получив в ответ его: «Я всю жизнь только этим и
занимаюсь, прекрасная Коломбина», быстро прикоснулась к белой руке Венецианца в
кружевной пене длинных, до кончиков тонких пальцев манжет, и Эрик отошел,
улыбаясь в жабо из черных с золотом венецианских кружев.
В театре стоял ровный гул и
жужжание пчелиного улья, в котором все отдельные звуки сливались в странную, но
не лишенную оригинальности музыкальную тему. Оркестр в дальней от сцены части
залы играл вовсю, но не мог выделиться в этом мелодическом сумбуре.
Эрик почувствовал, что его
дергают за полу плаща, и взглянул вниз. Перед его убежищем стояла странная
фигурка. Низенькая, чуть скособоченная, в забавном костюме, так что Эрик
усмехнулся. Лапка в розовой перчатке, только что дернувшая его за плащ, грозила
ему поднятым пальцем, водя перед своей морщинистой обезьяньей мордочкой. Маска,
наряженная в костюм обезьяны – пушистый, рыжевато-розовый, со штанами-баллонами,
узорчатой парчовой жилеткой и с медными тарелками цимбалов, висящих на цепочках
на широком кушаке, - пропищала скрипучим деланным голоском: «Подглядывать
нехорошо, милостивый государь! Шпиону на балу быть не в правилах маскарада,
можно штраф заработать!» - затем повернулась и порскнула прочь, рыжий плюшевый
хвост, прикрепленный пониже спины, мотался весьма уморительно.
Эрик посмотрел на палатку со
стеклянным колесом Фортуны и поймал взгляд Коломбины. Она сразу же отвернулась и
перегнулась из-за колеса к молодому человеку без маски и в обычном сюртуке,
выглядывающем из-под кое-как наброшенного на плечи плаща из… газетной бумаги!
Человек в газетном плаще, потеснив в сторону явно раздосадованного этим
господина в малиновом фраке с большой ромашкой в петлице, малиновом цилиндре,
черной полумаске и с явно наклеенными усами («А что он, собственно,
изображает?»), что-то горячо толковал Коломбине. Та отвечала, отрицательно
качая головкой и пожимая плечами. О, Темные небеса… да это опять он! Никакого
желания вновь повстречаться с энтузиастом журналистских сенсаций Эрик не
испытывал. Хватит, и так встречаемся регулярно. Если попадешься ему, так и
прилипнет опять… как мокрая газета к подошве. Эрик скривил губы в усмешке. Но
что ему надо от Камиллы?
Эрик незаметно переместился
ещё ближе к палатке – в карнавальной толчее растворяться в толпе не в пример
легче, чем в обычное время, хотя для него и на пустынной улице затеряться в
толпе не составляло сложности. Однако фактор случайности никогда нельзя
отвергать, уж он-то знает о склонности Его Величества Случая подшутить над
чересчур самоуверенными.
Газетный Плащ с потерянным
ищущим видом пронесся мимо, как на людной
улице убежавший от хозяина
щенок, и толпа
засосала его в свой водоворот. Малиновый господин только вознамерился продолжить
благотворительные действия, как непостоянная Коломбина вновь отвлеклась. Она
окликнула даму – та находилась с другой стороны палатки, и Эрик не видел её
толком, только виднелся абрис стройного стана и длинная светлая коса через
плечо, - и теперь быстро что-то ей говорила, не обращая ни малейшего внимания на
топчущегося рядом Малинового.
Эрик напряг слух, но гул
гигантского пчелиного улья мешал ему, он только мог различить, что говорит,
мешая русскую речь с французской, одна
Камилла, а её собеседница не отвечает, лишь кивая в ответ. Впрочем, разговор
сейчас же и закончился. Коломбина вернулась к своим обязанностям – сулить Синюю
Птицу Счастья, подменяя её на выходе сереньким воробышком материального везения
– и Малиновый господин завороженно глядел на её колыхавшиеся пышные юбки в
красных, зеленых, черных и белых ромбиках и на стройные ножки в туго натянутых
красных чулочках под ними, и непроизвольно тянулся к бумажнику.
Эрик, также непроизвольно,
двинулся к палатке, слегка оскалившись. Только что не облизывается, мерзавец! Он
всё понимает - театр, правила игры, принятые всеми манеры и тому подобное, но
здесь всего было слишком много. Ему и в голову не может прийти укорить хоть в
чем-то Камиллу, он верит ей, она единственный человек на свете, которому он
по-настоящему, до конца верит, но в удовольствии разогнать всех этих шаркунов он
себе отказать не может… И почему он должен отказывать себе в удовольствии!? Да
ещё эти букеты… валяющиеся под ногами по всему дому! И те вложения, что из них
выпадают!.. Неплохо было бы забить их в глотку тем, кто позволяет себе эту
провоцирующую наглость…
Эрик успел взять себя в
руки, не дойдя до полосатой палатки. Остановился, манжетой вытер мокрый лоб.
Давно она, пожалуй, на него не накатывала - такая внезапная, неконтролируемая
вспышка раздражения и ярости. Он посмотрел на дрожащие под кружевом белые
пальцы. Спокойно. Он повернулся спиной к палатке, отошел к стене залы, под тень
задрапированных лож. И ещё раз – спокойно.
Кто-то прикоснулся к его
локтю. Ч-черт, опять эти обезьяньи маскарадные розыгрыши! Спокойно…
- Только с мертвыми нельзя
встретиться на этом свете, - произнес за его спиной тихий знакомый голос.
Эрик обернулся и посмотрел в
прозрачные глаза Маргариты со светлыми, перекинутыми через плечо косами,
зеркальцем, бархатным кошелечком и острым веретеном, висящими на поясе.
|