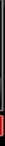|
NAME=topff>
ГЛАВА VIII
Ветер дул от берега, гнал по
воде мелкие полукруглые волны, морщил воду, и она напоминала шелковую скатерть,
которую сдвигает со стола небрежно упершийся локоть. Только редко можно увидеть
скатерть свинцового цвета. Отель находился на дальней стороне большой площади
Радхуссплассен, что перед портом. Открытое пространство площади насквозь
продувалось ветром, он вертел флюгера на острых крышах соседних домов, трепал
юбки женщин, идущих под окнами, и плащи их спутников. Под порывами ветра,
усилившегося к вечеру, подрагивали оконные стекла в частых переплетах. Под окном
поскрипывала вывеска с названием гостиницы: “Nordlands
Dettre”.
Сколько здесь гостиниц с такими названиями, просто удивительно. Почти так же
много, как «Звезда Христиании» и «Король Магнус Эриксон».
В дверь постучали, и молодая
женщина, стоящая у окна, удивленно обернулась, помедлила и, после затянувшейся
паузы, откликнулась. Вошел гостиничный официант с подносом, накрытым
накрахмаленной салфеткой, аккуратно поставил звякнувший поднос на стол и
осведомился, прикажут ли откупорить бутылку.
Женщина продолжала
непонимающе смотреть на него. Её немного близорукие глаза не позволяли ей толком
разглядеть, что принес на подносе официант, и она точно знала, что ничего не
заказывала. Она быстро подошла к столу, окинула взглядом всё, что стояло на
подносе: серебряное ведерко, темно-зеленое горлышко бутылки, торчащее из
колотого льда, два широких бокала и блюдо, накрытое крышкой, и чуть пожала
плечами. В ярком серебре ведерка мерцали пурпурные отсветы огня, плясавшего в
камине.
- Оставьте как есть, -
приказала она. В её голосе слышался чуть заметный французский акцент. Нет, не
акцент, а интонации. Ей хотелось задать вопрос, но она сдержалась. Впрочем, ей и
так было всё более или менее понятно.
Официант вышел, а молодая
дама, быстро наклонившись и глядя в серебряную отполированную поверхность
ведерка со льдом, поправила эгретку в замысловатой высокой прическе, взбила
кружева на низком срезе вечернего платья и выпрямилась, выжидательно глядя на
дверь. В дверь вновь стукнули, и створки немедленно вслед за тем распахнулись,
пропуская румяного молодого господина, которого вполне можно было бы называть
юношей без опасения допустить грубую ошибку. Его свежее, раскрасневшееся от
ветра лицо с маленькими светлыми усиками радовало взор своим оживленным
выражением, блестящий цилиндр и пальто на плечах были влажными от нескончаемо
моросившего за окном дождика. В руке он держал розу на высоком ломком стебле,
выставляя её вперед.
- Дорогая, - воскликнул
юноша с порога, - дорогая, ты не представляешь себе, кого я встретил! Жермена,
подумай только, старину Андрэ Жермена из «Креди лионнэ» собственной персоной! Он
буквально только что прибыл из Парижа, через Копенгаген, собирается в Финляндию,
как и мы, и мы сразу повстречались! Наверное, это перст судьбы! Мы так славно
посидели в кафе у ратуши! Он выложил мне массу парижских новостей, свежайших, а
я поведал ему о нашей северной жизни в Скандинавских гипербореях, как мы
тут слоняемся с места на место…
Молодой человек не снабдил
восклицательным знаком на конце предложения лишь последнюю фразу - в отличие от
предыдущих.
- Дорогая, я приказал
шампанское, твоё любимое, с белой печатью, его принесли, я надеюсь? –
молодой человек поискал глазами. – А, вижу! Я принес тебе розу, дорогая! Правда,
чудесная? Ну, понюхай же!
- Прелестная, мой любимый
сорт, - дама в вечернем платье взяла розу и сунула её в ведерко со льдом.
- Лотти, дорогая, ты
дуешься? Почему? – удивленно спросил молодой человек. На его лице отразилась
сначала неподдельная растерянность, а затем легкая обида. – Ведь я объяснил
тебе, старина Жермен… я не мог… право, не мог… он сделал мне несколько
заманчивых предложений, очень заманчивых; их - его и брата - банк расширяет свои
операции, есть один проект, и он… не буду забегать вперед, но наши финансовые
затруднения могут разрешиться в один момент… в конце концов, я беспокоюсь о нас
обоих, о тебе в первую очередь! Ну, скажи, что ты не сердишься. Ну, скажи же! А
в оперу мы пойдем завтра… Нет, завтра я пригласил Жермена отужинать с нами.
Послезавтра пойдем обязательно! Нет, послезавтра мы садимся на паром до
Гельсингфорса… И я, знаешь ли, уговорил Жермена присоединиться к нам!
- Ах, друг мой, ты как
мальчик, право, - покачала головкой молодая дама, впрочем, без раздражения или
какого-либо иного чувства, свидетельствующего об её недовольстве. – Я ждала
тебя, оделась для выхода, начала волноваться. Ты мог хотя бы протелефонировать в
отель, в контору управляющего, и сказать, чтобы мне передали.
- Разве здесь есть
телефонный аппарат? – поразился молодой человек.
Графиня Кристина тихо
вздохнула.
- Что-что, а рыба здесь
великолепная, особенно копченая. Просто восхитительна, нежна, тает во рту, со
слезой, и вкус… - граф де Шаньи помахал вилкой с вздетым на неё тонким до
прозрачности розовым лепестком копченой лососины. – Посмотри, крошка Л., на
просвет пламени камина – прямо как девичье ушко! Как этот способ приготовления
рыбы называется по-местному?
-
Gravlask.
- И на вкус, дорогая, как
девичье ушко! – и он весело рассмеялся.
Кристина посмотрела через
бегущие в её бокале пузырьки шампанского, но не на лососину горячего копчения, а
на своего молодого мужа. Иногда у неё возникало чувство, что она старше его лет
на десять, если не на все… все двенадцать, но она прогоняла его прочь. Чувство,
в смысле.
- Ты ничего не сказал о моем
платье, мой друг, - она разгладила тяжелый голубой атлас на коленях.
- Ты очаровательна, моя
крошка, ты лучше всех, - с искренним восторгом воскликнул граф Рауль, - и эта
прическа тебе необыкновенно идет! И колье исключительно удачно оттеняет твои
глаза. Я так обрадовался, когда нашел его в ювелирном магазинчике возле ратуши в
Упсале, твоей родной Упсале, помнишь? О, не слишком ли охлаждено шампанское,
дорогая? Ты не застудишь себе горло? Тебе надо беречь горло, моя крошка Лотти.
- Мне совершенно не к чему
беречь горло, - произнесла графиня де Шаньи.
Она некоторое время смотрела
в камин, болтая в бокале остатки шампанского, потом подняла бокал и посмотрела
сквозь золотистую жидкость на огонь. В хрустальных гранях зажглись искры,
притушенные, мерцающие, огонь словно смотрел на неё из тени двумя золотыми
глазами. Кристина приблизила лицо к бокалу. Угол лучей изменился. Искры пропали.
Она резко отставила бокал на стол.
- Уже поздно, пора спать,
Рауль.
Она услышала посапывание и,
посмотрев, убедилась, что её муж дремлет в кресле, поставив шампанское на один
подлокотник и неудобно пристроив голову на другой. Длинные «девичьи» ресницы,
нежный пушок на щеках, золотистые усики, мягкие завитки волос, падающие на уши -
открытое и молодое лицо, не только приятное, даже красивое, но и честное.
Это особенное его достоинство. И такой заботливый.
- Рауль, милый, - прошептала
она, трогая его за плечо. – Тебе неудобно в кресле, пойдем в спальню.
- Крошка Лотти, -
пробормотал Рауль, не открывая сомкнутых вежд и сонно вытягивая губы трубочкой.
– Крошка…
Он был на полголовы её выше,
но иногда она удерживала в последний момент то же самое ласковое обращение,
готовое слететь с её языка, но обращенное к нему – «крошка Рауль». А на слова
«мой дорогой мальчик» он в последнее время стал обижаться, говоря, что это
звучит так, словно она – его старшая сестра. Это понятно, его воспитали старшие
сестры, милейшие аристократические дамы из Сен-Жерменского предместья… Впрочем,
она их ни разу не видала, можно сказать, осталась с ними совершенно незнакома.
Им не простили, словно это была её вина… Никаких отношений, совсем никаких,
несмотря на попытки Рауля… Не мудрено, что ассоциации со старшей сестрой ему
неприятны. Ах, да ладно!
Он немного обидчив и
инфантилен, что уж греха таить, но… за три - неужели уже три года? – их брака
она отлично научилась с ним управляться, но иногда ей приходило в голову, что
молодость её миновала. Может быть это оттого, что она знает его с детства? Их
безоблачного, как ей теперь представляется, детства… Детские привязанности,
полудетские привязанности… Совсем недетские привязанности. Привязанности,
оказывается, такая непростая вещь, в них столько оттенков… В оттенках порой
трудно разобраться, и порой в них совершенно не хочется разбираться. Потому что
если начнешь разбираться… На самом деле, она даже обрадовалась в глубине души,
что они сегодня не пошли в Королевскую Оперу, ей вовсе не хотелось. Просто в
Оперу полагается ходить тем, кто принадлежит к определенному слою общества, да и
что ещё здесь есть из развлечений, по правде сказать… Конечно, в Скандинавии
диктат этой моды не столь ярко выражен, как в Париже. Граф и графиня де Шаньи
посещают оперу и балет, как и все, вот и всё. Но бывшей оперной певице Кристине
Дааэ в Опере бывать не обязательно.
А что было бы, если б… Нет,
думать не надо, это лишено всякого смысла и только осложняет течение жизни –
такой, какая она есть. Жизнь надо принимать такой, какая она есть, и всё. Тем
более что он… что его…
Это она в себе искореняла
долго и терпеливо – мечты о чем-то, что невозможно в обыденной реальной жизни.
Это её отец виноват, он хотел привить это ей – фантазии, умение видеть
нереальное, веру в то, что в настоящей жизни есть место не только тому, что
привычно для всех, но и непохожему… Ему это почти удалось… Прости, папа, я не
должна тебя осуждать, но ты был мечтателем, идеалистом, фантазером, а в
настоящей жизни мечтателям и фантазерам… мало места… им трудно жить… Сказки
чудесны, но жизнь – это не волшебная сказка, она реальна. Волшебная сказка рано
или поздно, но всегда заканчивается, а жизнь продолжается, такое уж свойство у
волшебных сказок. Она знает. Волшебные замки существуют только в театре, и они
сделаны из картона. А некоторые верят, что их можно построить и в реальной
жизни, и эти люди терпят поражение в отношениях с жизнью. Ты, папа, всю жизнь
верил, и что?.. Ты, папа, опекал меня, желая, чтобы моя жизнь была счастливой,
но счастливой в твоем понимании… Не только ты…
Она, Кристина, вообще
вызывает у мужчин желание заботиться о ней, покровительствовать, направлять…
Такое уж у неё свойство, но на самом деле оно не отражает её настоящую сущность.
Она вовсе не такая слабая и зависимая, как они думают… как им хочется
думать… И тебя, папа, нет больше… вас обоих больше нет… Всё, хватит!
- Рауль, ну просыпайся же, -
Кристина опять потормошила его. – Не оставлять же тебя спать в кресле, как в
прошлый раз. Просыпайся, мой мальчик…
***
Игра шла так, как он и
рассчитывал. Колода была прорезана насквозь, но это не имело значения, так же,
как и то, что понтирующий обязательно давал колоду кому-нибудь срезать. Все
карты всё равно ложились в том порядке, как были заранее сложены. Ловкость рук,
одно движение, совершенно неуловимое глазом, и всё. Корреспондент не
преувеличил, этот господин Попов, с которым он его свел, как и обещал, с
уточнением особенной преференции, был виртуозом своего искусства. Именно что
искусства, он не оговорился. Эрик считал ловкость рук искусством и ничем иным,
но в настоящий период времени он сам имел в виду прибегать к ней только в строго
ограниченном поле применения.
Игра была готова. Ставки
различались, и понтирующему – Эрик это сразу отметил, - достаточно было одно
взгляда, воистину орлиного, чтобы единовременно увидеть всё: на какие карты
легли крупные ставки, на какие ставки помельче, правильно ли сделаны записи.
Некоторым игрокам дозволялось делать записи мелом на зеленом сукне стола, и
Попов сходу уточнял, «на «пе» или «перепе» тот угол?» – «Ах, на пе, так у вас
мелок подкололся, дает двойную полосу, и выходит, что на перепе. Вы исправьте».
Или «У вас там восьмерка обозначена или тройка? Тройка? Так вы чище выпишите,
завитки подотрите». И всё стремительно, четко. Эрик против воли потихоньку
восхищался безукоризненным профессионализмом, хотя восхищаться талантами,
смежными с территорией, которую он считал своей, не слишком любил.
Карты, что метал Попов,
ложились, словно из машины вылетали: направо – налево, направо – налево…
Размеренно, правильно, каждая ровно на своё место. После каждого «абцуга» Попов
озирал стол и аккуратно тянул верхнюю. Эрик, прищурившись, внимательно наблюдал.
За тузом проявились червонные «четыре сбоку». Одна из «четыре сбоку» - а именно
десятка - была уже дана, следовательно, по всем вероятностям, возможно лежащий
под тузом валет также уже дан. Из ставок самая крупная – пачка сотенных –
поставлена была именно на валета. Попов снял туза, и под ним обнажился не
валет, а дама…
Угол рта у Эрика чуть
дернулся. Тот из окружающих, кто смотрел бы на него в этот момент, счел бы это
простым сокращением лицевых мускулов на манер тика, но тому, кто Эрика хорошо
знал – например, Камилле – стало б ясно: Эрик доволен. Его сосед-шулер по правую
руку еле слышно цокнул языком – досадливо и одновременно восхищенно. Движения
асса-понтировщика являли собою молниеносную стремительность, глазом человеческим
не ухватываемую. Г-н Вахлаковский, характеризуя Эрику Попова, привел отзывы,
бытующие среди шулеров, среди которых был и такой: «С ним играть – всё равно,
что с бритвы мёд лизать». Эрик отзыв оценил и вскоре с ним полностью согласился.
Всем за зеленым сукном было очевидно – передернуто, но заметить, как это
произошло, не мог никто. Никто, кроме Эрика.
Некоторое время он
присматривался, пока не научился видеть то, что ему нужно было, и сейчас вновь
засек очередное неуловимое движение, а, уловив, мог найти возможность не
попасться. Две последние недели он, повышая ставки, играл так, что о новом
игроке начали поговаривать по московским карточным квартирам. Насколько он знал,
его прозвали Паленым Игроком, его грим и маска-повязка, намекающие на ожог, а
также то, что он был введен в этот мир соответствующим профессиональным
авторитетом, обеспечили ему приятие без вопросов там, куда он стремился. Как и
хотел. Да, добрые дела подчас приносят пользу… И ещё он получил одну
возможность… Но это не сразу. В его планы не входило доставать тузы из рукава,
никакого шулерства, он просто играл, а всё расчеты строились на том, что он не
позволит обыгрывать себя. На всякое действие у него есть противодействие.
Заманить противника в ловушку, завлечь и провести последовательно до очень
крупной ставки, а затем… отбить его подводку своей. Навязать свою игру и
выиграть. И ему всю жизнь приходилось проверять бритву на вкус, у неё совершенно
особый привкус. В этом есть своя прелесть. Жизнь – опасная игра и в ней
выигрывает сильный и не боящийся риска.
Кажется, всё идет неплохо.
Он выигрывает.
***
Кажется, всё идет прекрасно.
Даже погода чудная. Неожиданно и резко наступила весна, кажется, ещё вчера зима
чувствовала себя полновластной хозяйкой, уверенной в том, что она здесь
расположилась навсегда, а буквально в одно утро примчался теплый влажный ветер,
и небо заголубело, зазвучали голоса каких-то прилетевших из дальних стран птиц;
и снежные сугробы стали таять с удивительной скоростью, будто сахар в горячем
чае. Вниз по переулку побежали ручьи; на карнизах появились, заплакали ледяными
слезами и сразу истаяли острые сосульки, над мокрыми крышами задрожал теплый
прозрачный воздух.
Настроение у Камиллы Фонтейн
было под стать весенней атмосфере, её уверенному наступлению в темпе vivace
con moto.
Устойчиво оптимистическое, вот что можно было о нём сказать, чтобы не вдаваться
в детали. Но действительно, всё в этот последний месяц (равно как и сейчас) у
них шло отлично, всё радовало.
В театре – прекрасно, лучше
не пожелаешь, всё вытанцовывается, в последней партии она блеснула так,
что на неё буквально пролился ливень хвалебных рецензий и статей, превозносивших
французскую приму и призывавших некоторых «почивших на лаврах»
отечественных див у неё поучиться. Поскольку и подоспевшие новые туалеты
поражали даже несведущих истинно парижским шиком, сногсшибательным шармом и при
этом безукоризненной элегантностью, то мадмуазель Фонтейн с наслаждением
купалась в бодрящей атмосфере ревнивого и завистливого внимания. Её это
стимулировало, это было то самое топливо, нужное, чтобы питать тот маленький, но
ровно горящий костер амбиций, что необходим в борьбе за успех и славу, и
мадмуазель с утроенной энергией намеревалась и дальше закреплять свой триумф на
российской сцене, с энтузиазмом глядя в своё профессиональное будущее.
Дома также всё было отлично.
Маленькая Туся быстро поправлялась, окрепшая девочка радовала Камиллу своим
смехом, желанием старательно изучать французский язык и робкими просьбами давать
ей музыкальные уроки, что очень умиляло Камиллу, полагавшую в этом стремлении
явное влияние волшебного искусства Эрика.
Камилла размечталась, что
если удастся убедить Эрика в том, что его никто не заподозрит в желании быть
хорошим и добрым, то он, возможно, согласится давать девочке уроки. Его
скептический намёк на то, что воображаемая картинка смахивает на хрестоматийную
идиллию, Камиллу не смущало. Да, весна – время иллюзий, и это тоже прекрасно.
Пока же она рассказывала выздоравливающей девочке о Париже, об Италии (где сама,
кстати, пока не побывала) и о театрах, с удовольствием наблюдая, как округляются
и разгораются детские глаза.
Лучезарное весеннее
настроение мадмуазель Фонтейн не могла испортить даже серия мелких неприятных
происшествий в театре. Последний месяц оказался урожайным на них, и некоторые
коснулись мадмуазель Фонтейн. Например, в полу её гримерной обнаружился торчащий
гвоздь, на который Камилла чудом не наступила. Её спасла быстрая реакция и
ловкость: она заметила гвоздь в тот момент, что её нога в балетной туфельке уже
опускалась прямиком на стальное жало, и совершила поистине кошачье антраша в
воздухе, избегнув травмы. Торчащий из полу гвоздь не такая уж диковинка, но
дело-то было в том, что выступала не шляпка, а вершковое острие гвоздя. Когда
Камилла и Марта Андерсон склонились над этим безобразием, они увидели, что шашка
пола легко поднимается. Оставалось предположить, что она была вынута,
перевернута, гвоздь вбит с изнанки, а шашку вернули на место. Интересно, что
Камилле, самой раздосадованной очередными закулисными происками, пришлось
успокаивать Марту, поскольку та очень расстроилась, причитая, что это она, де,
потянула за собой череду несчастий. Дело было в том, что в гримерке Камиллы
Марта оказалась не случайно. Камилла на время приютила бедную Марту в своей
уборной, потому что в Мартиной взорвалась газовая горелка лампы. К счастью, всё
обошлось. Марта Андерсон и вторая балерина, с которой они делили уборную, быстро
успели выскочить из закопченной комнатки, кашляя и оплакивая пострадавшие
платья. Администрация, получив нагоняй из Канцелярии дирекции театров и суровое
предписание, приступила к проверке всего газового оборудования в театре, а
мадмуазель Фонтейн пустила погорелицу к себе. Были и другие мелочи, довольно
досадного свойства.
Но как бы там ни было,
поколебать солнечное настроение всё это оказалось не в силах, и Камилла Фонтейн
не напевала дома от избытка легкости чувств только потому, что не хотела поймать
на себе взгляд Эрика, бывало посматривавшего на поющую Камиллу со сложным
выражением. Он снисходительно относился к её вокальным попыткам, но лучше было
не искушать судьбу.
А неуютных червячков
сомнения смыло весенней талой водой, и недомолвки исчезли вместе с ними,
испарились на весеннем солнце.
***
- Серж, что вы делаете
здесь? – удивленно спросила Камилла Фонтейн, выйдя из своей уборной, чтобы идти
к началу второго акта. – Что с вами? – добавила она, приглядевшись. – Почему вы
такой бледный, что с вами, вы не есть здоровы?
- Голова болит, мигрень, -
выдавил Серж Мерцалов, потирая виски и глядя на балерину взглядом, в котором
ясно читалось смятение.
- Я могу помочь вам? –
Камилла ласково дотронулась до его плеча. – У меня есть чудесные нюхательные
соли, я сейчас вам вынесу…
Молодой человек шарахнулся
от её прикосновения и воровато оглянулся через плечо.
- Нет, не нужно, - он ещё
раз оглянулся и придвинулся ближе, глубоко вздохнув, словно решаясь на что-то и
понижая голос. – Я… я хотел бы… вы так добры… вы… можно, я зайду к вам после
спектакля, мне нужно признаться… нет, поговорить?
- О, сегодня спектакль
заканчивается так поздно, но если это важно… Это важно? – Камилла, хотевшая
сначала отказаться, передумала, заметив, как волнуется молодой танцор. Он
топтался на месте, шевелил пальцами и вообще весь вид его обнаруживал очевидное
нервическое состояние. – Хорошо, заходите.
«Боже мой, что он такое
мямлил с этим таинственным видом? – вопрошала себя Камилла, дожидаясь своих
тактов за кулисой. – Он как-то странно выглядел, но, если приглядеться, он в
последнее время вообще выглядит странно…»
Овации затянулись, и
мадмуазель Фонтейн задерживали на сцене дольше обычного, заставляя усталую
балерину выходить на поклон раз за разом. Впрочем, это приятное бремя для любого
артиста, и хотя Камилла мысленно мечтала о возможности отстегнуть свои усталые
ножки и заменить их запасными, она всегда выходила «до последнего хлопка», как
это называлось, будь это даже хлопки галерки. Руководящий принцип её гласил:
«Если ты уважаешь публику, есть надежда, что она будет уважать тебя». В коридоре
её встретили два капельдинера с охапками цветов (среди них выделялся особенно
впечатляющий размерами букет белых ромашек, так что Камилла поискала глазами, но
настойчивого поклонника не обнаружила) и средних размеров стая фрачных
беложилетных господ, жаждавших общения с примой. Всё это потребовало некоторого
времени, и когда Камилла, наконец, оказалась в своей гримерной, Марта уже успела
переодеться и собиралась уходить. На рассеянный вопрос Камиллы она мурлыкнула,
что спешит, у неё свидание, и упорхнула.
У Камиллы, только сейчас
ощутившей насколько же она утомлена, мелькнула робкая надежда, что господин
Мерцалов передумал и не появится, но, увы. Надежды рассыпались в прах, когда в
двери поскреблись, и в них бочком протиснулся Серж. Вид у него был даже хуже,
чем давеча.
Камилла пригласила молодого
танцора присесть сбоку зеркала, чтобы она могла и слушать то, что он имел ей
сказать, и одновременно снимать грим, и отвернулась вновь к трюмо, аккуратно
стирая синюю краску, густо подводившую её глаза.
- Где же вы, мсье Серж? –
спросила она, потому что визитер медлил и не появлялся в поле зрения на стуле. –
Идите сюда, садитесь. Давайте не будем задерживаться, я очень устала, и мне так
хочется домой. И муж, наверное, меня уже заждался…
- А-а, му-у-уж, - услыхала
она сдавленный голос, подняла удивленно взгляд и увидала в зеркале за своей
спиной надвигающееся искривленное гримасой лицо и отчаянные глаза господина
Мерцалова.
«Ой», - подумала Камилла и
уронила мягкую хлопчатую салфетку, которой вытирала грим.
***
В опустевшем театре гасли
огни; завершавшие обход театральные пожарные числом два (штат в последнюю
административную реформу был урезан) затушили все огни; ночной сторож на выходе
готовился попить чайку с припасенным бубликом и кругом колбасы, которую сам
называл «Собачья радость», и приступить к несению ночной вахты, то есть лечь
спать на составленные кресла в дежурной каптерке.
Сторож, человек солидный и
обстоятельный, аккуратно разложил снедь на расстеленной на дощатом столике
чистой тряпице, поломал бублик и уже нарезал толстыми кружками колбасу,
предвкушающе вдыхая её крепкий горохово-чесночный дух, когда приближающийся шум
заставил его бросить приятное занятие и выйти из каптерки. Кто-то поспешал по
темному коридору к выходу, судя по звукам, иногда налетая на углы и спотыкаясь.
Ответственный сторож заступил дверь, преградив тем самым дорогу неизвестному
запоздавшему. Он преисполнен был чувства долга и желания разобраться, но когда
неяркий свет, бликами ложившийся на пол у каптерки, высветил лицо посланника
тьмы, сторож опустил растопыренные руки.
- Что-то вы запозднились
нынче, господин хороший, - добродушно отметил он, сторонясь и пропуская фигуру,
закутанную в пальто с бобровым воротником, казавшуюся меньше из-за того, что
черное пальто сливалось с темнотой маленького вестибюля. Фигура проскользнула
мимо, оставив в руке сторожа двугривенный и пожелав сторожу доброй ночи.
«Хороший человек, - подумал
сторож, пряча двугривенный. – Не то, что некоторые актёришки – не дождешься.
Чегой-то он опять поздно. Ну, да мне что за дело. Человек не посторонний, свой,
а что до того…»
Сторож не успел завершить
мысленный монолог, как вновь приближающийся шум мобилизовал его ослабнувшее от
лицезрения двугривенного внимание. «Эге, - хмыкнул он в бороду. – Понятно». Хотя
на этот раз перестук каблучков заранее подготовил житейски опытного стража
театрального имущества к появлению именно женской персоны и никакой другой, но
он не смог скрыть изумления. Он увидал совсем не то, что ожидал. Вместо
какой-нибудь театральной модисточки или кордебалетной балеринки, покидающей
театр по причине служебной задержки вслед за кавалером, он, раскрыв рот,
уставился на прима-балерину Императорских театров, мадмуазель француженку,
которая, запахивая на ходу соболье манто, явилась из темноты с совершенно
естественным видом. Сторож не нашел ничего лучшего, как поспешно распахнуть пред
ней двери, мадмуазель мило ему улыбнулась и приятно картавя попросила подозвать
на улице извозчика, что сторож и совершил без комментариев. Подсадив под локоток
красавицу приму в пролетку, он ощутил ласковое прикосновение к своей ладони
тяжеленького кругляша, безошибочно им опознанного как серебряный целковый,
одновременно отчетливо услыхав тихий смех, доносившийся из пролетки.
Не успел сторож вернуться на
свой горячий пост, как в дверях третий раз столкнулся с субъектом, покидающим
театральное пустое здание. Капитал сторожа увеличился ещё на гривенник.
«Эк их разобрало, -
размышлял сторож, почесывая в бороде. – Нешто кому рассказать? Да что! Лучше не
мешаться в это дело, что они здесь шастают. Надоть, значит, вот и шастают. Одно
слово – театр. И всё приличные люди, и других не забывают… А уж энтот
последний-то… меньше всех дал, а ещё непоследний человек. Вишь, скаред!»
И сторож вернулся к колбасе,
успевшей пропитать своим могучим духом всю каптерку и даже опустевший - теперь
уже окончательно - вестибюльчик.
***
- Володюшка, гаси лампу-то,
- услыхал тихий шепот корреспондент Сигма и заспешил, перо завыписывало на
бумаге вензеля, как жиголо на модном скейтинг-ринге.
– Сейчас, мама, мне только
ещё чуть-чуть заметку осталось закончить, - прошипел он в ответ так же тихо. –
Вы подождите немного.
- Да как бы отец не
проснулся, сынок, - мягкая рука матери пригладила вихор на Володином затылке. –
Сердиться будет, что опять лампу жжёшь долго.
- Я же теперь сам гонорары
приношу в дом, - гордо прошептал Володя Сыромятников.
- Хорошо, хорошо, всё же не
засиживайся, сынок.
Потерев любовно, но робко
поцелованный матерью затылок, Сигма вздохнул и вернулся к работе, начав
сосредоточенно перечитывать написанное. Перечитал, поправил, что надо, и
восхитился. Здорово! Нет, правда здорово! Он сложил листки, задул лампу, не
забыв проверить уровень керосина, оставшегося в резервуаре, и успокоившись на
тот счет, что плескавшийся остаток не даст придирчиво-экономному отцу повод
устроить долгую выволочку с назиданиями. Несмотря на гордо приносимые деньги,
выплаченные за статьи и заметки, отец отказывался рассматривать всерьез вопрос о
самодостаточности сына.
Его статьи и заметки он
также отказывался принимать всерьез.
Зато другие принимают!
Володя Сыромятников улегся и
закинул руки за голову, мечтательно вперив взгляд в смутно различаемую в темноте
литографию Иоганна-Вольфганга Гёте, сделанную с портрета кисти художника
Кипренского и висевшую в изножии его кровати. Марта вот с одобрением
слушает его заметки о театре и рецензии, которые он пробует писать, и умненько
вставляет замечания, очень полезные замечания, касающиеся театральной фактуры. В
основном в этих заметках журналист Сигма обращает внимание на успехи
перспективной молодой балерины Андерсон, и их обязательно напечатают. Рано или
поздно. Володя опять вздохнул, с печалью подумав, что часто у Марты не находится
для него достаточно времени, вот и сегодня тоже она отговорилась какими-то
семейными делами. Жалко. Ну да ничего. Всё в его руках, вернее, на кончике
его журналистского пера. Он докажет ей. Он покорит не только литературный Олимп,
он и её завоюет. Мужчина должен занимать активную, деятельную жизненную позицию.
Всё впереди.
И весна…
Величайший поэт Германии,
один из крупнейших западноевропейских классиков, первый министр и председатель
тайного совета при дворе герцога Веймарского одобрительно взирал на молодого
литератора. По крайней мере, Володе Сыромятникову так казалось.
|